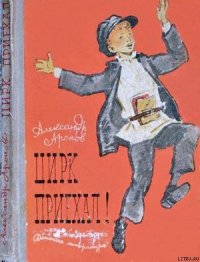Цирк, цирк, цирк (рассказы) - Кунин Владимир Владимирович (книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Но, как потом выяснилось, зебры не хотели идти вечером, в дождь «своим ходом». Они вообще никаким ходом не хотели идти, и с величайшим трудом их запихали в грузовик с высокими бортами. Как зебры ни визжали, а их все-таки увезли. Потом, весело помахивая хоботом и хвостом, ушел слон.
А потом... А потом пришли за ослом. Дрессировщик увидел Женьку около осла и ничего не сказал. И Женька ничего не сказал. И осел ничего не сказал. Он просто поднялся и пошел за дрессировщиком. Женька побрел вслед.
Большие ворота закулисной части были настежь распахнуты в холодный вечерний дождь. Медленно ступая, осел шел в этот черный квадрат, повернув голову, глядя на Женьку. Он даже наткнулся на что-то, так как не видел, куда шел.
— Ну, ты! Слепая курица! — крикнул дрессировщик и дернул за веревку. Осел вышел во двор и сразу же за пеленой дождя стал терять свои очертания.
Женька прошел еще несколько шагов и остановился. Он уже почти не видел осла. Струйки дождя стекали с головы и заливали глаза, да и совсем темно было.
Какое-то неясное пятно расплывалось в вечерней дождливой мгле, и только медленные, шлепающие по лужам шаги слышались оттуда, куда уходил осел...
Странный человек Женька Каблуков. Странный и непонятный...
Рассказ про Женьку Каблукова
Все это случилось осенью в одном небольшом южном городке, жители которого глубоко убеждены, что они живут в центре вселенной, а Минск, Париж, Одесса, Лондон и Харьков — это не что иное, как предместья их собственного города. И конечно, в городе были театр оперетты и цирк шапито.
Весной закрытие зимнего сезона театра, а осенью закрытие шапито воспринимались трагически, как личное оскорбление городу.
Жители этого города справедливо считали, что если городу нельзя иметь собственный планетарий, то уж цирк может работать круглый год, ничего с ним не случится.
В общем, это был хороший город, и в нем был хороший цирк.
Цирк имел брезентовый купол цвета хаки и был виден из любого конца города. Даже из дачной местности...
Собственно говоря, город здесь ни при чем. Просто в нем стоял цирк. И в цирке шло последнее представление летнего сезона...
Впрочем, давайте по порядку...
Во-первых, кто такие Михеевы?
Михеевы — это Гена и Зина, брат и сестра, и Женька. Но Женька им не родственник. Он партнер. И фамилия у Женьки Каблуков, а не Михеев. Но назывались они «Михеевы» вовсе не потому, что Михеевых в номере больше, чем Каблуковых, а потому, что Гена Михеев был существом более организованным, чем остальные партнеры. К тому же он был «нижним». А в-третьих... Впрочем, перечисленного вполне достаточно, чтобы именно Михеев был руководителем номера. И поэтому они назывались «Михеевы».
Честно говоря, иногда Женька думал о том, что, если бы у него была более звучная фамилия, он просил бы объявлять каждого. Ну например: «Зинаида и Геннадий Михеевы и Евгений Изумрудов!» Но так как Женька был все-таки Каблуков, то их и объявляли: «Темповые акробаты артисты Михеевы!»
Женька был человек увлекающийся. Еще на третьем курсе в цирковом училище, когда он начал репетировать номер с Михеевыми, он влюбился в Зину, сестру Гены. Но эта любовь прошла через три месяца, и виновата была в этом Зина. Женька понял, что не может любить человека, которому невозможно вдолбить, что на заднем сальто нужно брать плотную группировку! А так как Зина и не подозревала о том, что Женька был в нее влюблен, «разрыв» прошел незамеченным. Отношения между партнерами остались приятельские, и всех троих это устраивало.
В первом же цирке, где дебютировали Михеевы, Женька навсегда полюбил Клару Гурьеву, дочку коверного клоуна. Однако после того как Клара заявила, что лучшая в мире книга — «Кукла госпожи Барк», а Есенин — «просто душка», Женька понял, что нет в жизни счастья и что он «не создан для блаженства...».
Потом Женька взялся писать стихи. Стихи почему-то получались грустные, с надрывом... Однажды Женька прочел стихи Гене и Зине. Он читал, стоя в одних трусах, босиком на реквизитном ящике в гардеробной. И когда он дошел до строчек:
Вечно я в ленту барьера закован,
Выход отсюда один — за кулисы,
Я вот в тоску, как багаж, упакован.
Вам не понять ли, вы тоже актриса... —
Зина посмотрела на него увлажненными глазами, а Гена сплюнул и сказал Женьке:
— Черт знает что нагородил! Какое-то больное творчество!.. Ты бы, Женька, лучше пируэт сальто-мортале отрепетировал! А то такой закорючкой летаешь по манежу, что смотреть противно!
Вечером этого же дня Женька сделал блестящее сальто с пируэтом и, бросив писать стихи, с жаром принялся придумывать какой-то «потрясающий» воздушный номер!
Он вооружился учебником физики для восьмого класса и целыми днями чертил, рисовал и придумывал какой-то сногсшибательный аппарат. Он показал свои чертежи цирковому инженеру, и «гениальное изобретение» отправилось в мусорный ящик. Причем рука, выбросившая чертежи, записи и рисунки, была мужественной рукой самого Женьки.
Цирку Женька был предан неистово.
Репетировали они до одури... Ругались, кричали друг на друга, спорили и блестяще работали на представлениях.
Почти каждый вечер Михеевы просили кого-нибудь из приятелей встать у занавеса с часами и засечь время их работы в манеже.
Темп, прежде всего темп, считали Михеевы.
— Четыре минуты двенадцать секунд! — кричали приятели, когда Михеевы выскакивали за кулисы.
Женька, тяжело дыша, хватался за голову.
— Какой кретин назвал нас темповыми акробатами, хотел бы я знать? Четыре и двенадцать! Это борьба с удавом, пластический этюд, все, что угодно, но только не темп! Мы ползали по манежу, как сонные мухи!..
Но когда на следующий день раздавался крик очередного хронометражиста: «Четыре и семь!» — мокрый и взъерошенный Женька, задыхаясь, говорил: «Блеск!» — и, не заходя в гардеробную, начинал стаскивать прилипшую к телу рубашку.
— Молодцы, партнерчики! — кричал Михеев.
— Рады стараться! — отвечали Зина и Женька. И они действительно были очень рады.
Всю последнюю неделю шли дожди.
С утра серой пеленой они окутывали теплый город и к вечеру охлаждали его настолько, что люди зябко ежились в пропитанных влагой плащах, глядя на окружающие предметы сквозь струйки, стекающие с полей шляп.
Намокло шапито. Оно стало густого темно-зеленого цвета и тяжело провисало. Все тросы и канаты, опутывающие цирк, натянулись и, когда кто-нибудь случайно задевал их, издавали долгий грустный звук, роняя на землю сотни прозрачных холодных капель.
Шло последнее представление. Летний сезон заканчивался, и актеры разъезжались по разным циркам.
Закончив свой номер, актеры не бежали, как обычно, в душ, а, наскоро сняв грим, переодевались в старые штаны, рубахи или комбинезоны. Откуда-то вытаскивались ящики, разбирался реквизит, укладывались костюмы. Каждый старался закончить упаковку до конца представления.
Михеевы были в наивыгоднейшем положении. Они работали первым номером. Единственное, что смущало их, это репетиционная лонжа. Лонжа прикреплялась под куполом, и снять ее можно было только после представления.
— Ребята, — сказала Зина, — а что, если снять лонжу в антракте?
— Блестящая идея! — сказал Гена. — Внимание, Женька! Ты надеваешь униформу и выходишь в антракте в манеж. Я со стороны двора лезу на купол, снимаю лонжу и на веревке сквозь клапан шапито опускаю тебе в манеж. Ясно?
— Ясно, — ответил Женька. — Только униформу надеваешь ты, а на купол лезу я.
— Какая разница?
— Никакой. Просто если ты в прошлом году в Астрахани в сорокаградусную жару заболел фолликулярной ангиной, то сейчас там, наверху, воспаление легких тебе обеспечено...
— Ты с ума сошел, Женька!
— Он прав, — тихо сказала Зина.
— Да ну вас, — отмахнулся Михеев и вышел из гардеробной.
— Не забудь взять веревку, — сказала Зина.
— Какую веревку? — удивился Женька.
— Как какую? Лонжу спустить. Не будешь же ты ее бросать сверху в манеж!