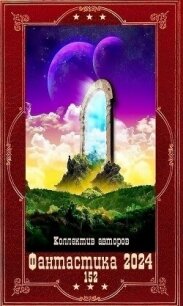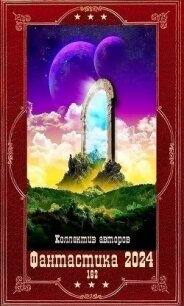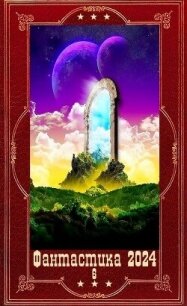Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Среди красавиц, блиставших под Новый год в Бич-хаусе, Сюзан была не самой заметной, и она могла перестать танцевать, когда ей захочется. Ей захотелось, как только Дрейки ушли. Много лет спустя, когда она рассказывала о том вечере в своих воспоминаниях, ей, как мне сейчас, был внятен эффект Доплера. Она оглядывалась на то, что было шестьдесят с лишним лет назад, для меня это события более чем вековой давности, но я думаю, что воспринимаю примерно тот же звук или звуки, что она: голос будущего, которое шло к девушке двадцати одного года, и более темный удаляющийся голос прошлого, слышный женщине в восемьдесят четыре.
Гостиные в тот предновогодний вечер наполняла большая компания, люди перемещались, менялись местами, но были и те, кто сидел у окна. Снаружи стемнело. Сидя подле громадного оконного стекла, я видела в нем, точно в зеркале, всех собравшихся; мы отражались в нем на ночном фоне, ненавязчиво усеянном огоньками. Наши фигуры, смягченные и таинственно облагороженные: чарующая картина! Одно лицо на переднем плане отчетливо выступало из темноты наружного мира. При мне был мой блокнот, и я попыталась это лицо нарисовать – благо оно как раз было на уровне моих глаз, – и вышло так, что это лицо, единственное из всех, отраженных в окне, осталось в моей жизни. Все прочие давно из нее ушли; большинства уже нет на свете.
Чье лицо? Ну конечно, Оливера Уорда, моего дедушки. Он получился у нее немного похожим на крестоносца – не хватает только шлема и кольчужного нашейника. Лицо молодое, сильное, профиль решительный: таким, вероятно, она его видела.
А почему он сидел так, что лицо было на уровне ее глаз? Потому что был уже более чем наполовину влюблен в Сюзан Берлинг, и, вернув ей тогда блокнот, он не нашел в себе ни светской непринужденности, чтобы изобрести новые предлоги для беседы с такой популярной молодой особой, ни мужества, чтобы отойти. Поэтому он сидел чуть поодаль словно в глубоких раздумьях о предстоящих приключениях на Западе, выпятив подбородок навстречу тяготам и опасностям и надеясь, что производит впечатление тихого героя.
А почему она стала его рисовать? Думаю, не только потому, что он там был. Как минимум он привлек к себе ее внимание.
Это мимолетное соприкосновение соединило их – как если бы одно большое здание прикрепил к другому единственный мазок клея. Не прошло и недели, как он отбыл в Калифорнию, и пять лет без малого они не виделись. Он наверняка поехал с намерением “зарекомендовать себя” – таков был дедушкин характер, – а это оказалось делом не быстрым. Однако он явно ей писал, и она отвечала: в воспоминаниях говорится о “взаимопонимании”, которое постепенно между ними установилось.
Но не вполне по ее воле – возможно, отчасти даже вопреки ей. Мне кажется любопытным, что в сотне с лишним сохранившихся бабушкиных писем Огасте Дрейк за эти пять лет Оливер Уорд не упомянут ни разу. Впервые о нем заходит речь, когда прошло больше недели после его возвращения.
Три плохих дня, сплошное раздражение и зряшные усилия. Только кретин мог нанять эту женщину из “Аргуса”, мне голову надо проверить. Слишком тупая для любой работы, даже апельсины фасовать. Работа на такого урода явно вывела ее из равновесия, но самое скверное, что эта женщина вывела из равновесия меня.
При ней все было не так: за окном дождь, солнца в комнате нет, утренней яркости нет, тепла на моей шее нет, удовольствия от идущей работы нет. Переселяясь в ее гусиную кожу, я постоянно ощущал пустоту всех голых запертых комнат этого дома и готическую странность угла, где этот урод, этот живой мертвец шелестит старыми бумагами и бормочет в микрофон. Она смотрела на меня чуть ли не с ужасом. Я чувствовал ее взгляд у себя на спине, слышал ее дыхание, и всякий раз, как я оборачивался в своем кресле и смотрел ей в глаза, они убегали прочь, словно бы судорожно ища что‑то потерянное. Я невольно задавался вопросом: ее прискорбные недостатки, как секретарские, так и человеческие – они ее собственные, или это проявление нынешней общей неспособности сделать хоть что‑нибудь как следует? Все время, пока я пытался работать с этой мисс Морроу, я воображал себе, какое было бы счастье, если бы не она, а Сюзан Берлинг сортировала тут рисунки, раскладывала бумаги по папкам и перепечатывала поблекшие, едва читаемые письма.
Ослышки, опечатки, вечно что‑то теряется, валится из рук, поминутно глядим на часы, то и дело вниз на кухню выпить кофе, каждые полчаса в туалет, еще не пришла толком, а уже уходить – ничего этого не было бы. Сюзан Берлинг – деловитость, опрятность, тщательность. К рисункам она бы испытала живой интерес, она бы не рассовывала их кое‑как, точно столовые приборы по отделениям ящика – ножи вместе с ложками, вилки среди ножей. Старинные наряды ее заинтриговали бы, они бы не показались ей смешными. От нее бы не ускользнула человечность лиц, ушедших в прошлое.
В одном из писем, говоря о семейном портрете, который увидела в доме Уордов в Гилфорде, бабушка восклицает: “До чего же очаровательное лицо вековой давности!” Ее фотоснимки должны бы вызывать сейчас такие же ощущения. Но что говорит мисс Морроу, наклонившись в своей мини-юбке так, что мое боковое зрение распирает от толщины ее ляжек, что говорит мисс Морроу, у которой на голове холм из волос, давно уже не модный, на губах мертвящая бесцветная помада, а верхние веки зеленые, будто крашеные ставни, – что она говорит, опустив эту маску вместо лица к череде бабушкиных фотографий за много лет, где всюду – ее резной профиль, ее непреклонная элегантность? Она говорит: “Вот так так! Всю жизнь одна и та же прическа!”
Да, мисс Морроу. Одна и та же старая добрая прическа: классический пучок и челка. От добра добра не ищут. Сюзан говорила, что ей не нравится, когда “слишком много лба”. Ей нравились ровно две прически: та, которая, она убедилась, идет ей самой, и плавная облегающая кривая, как у Огасты. Я и представить себе не могу, что она бы сказала, если бы увидела отвесный череп этой девицы – этакий утес, увенчанный хомячьим гнездом.
Всего хорошего, мисс Морроу, и спасибо за помощь, от которой, надеюсь, я как‑нибудь оправлюсь. Завтра надо будет сделать усилие и попробовать приноровиться к Шелли, дочери Ады, потому что даже если с ней и неважно пойдет, деться мне все равно некуда. Придется иметь дело с Шелли, пока она не решит свою проблему с мужем, который не желает быть нежеланным. Не будь ее волосы по нынешней моде распущены и не свисай они ниже плеч, она понравилась бы мне больше, но, поскольку у меня нет устройств, куда волосы могли бы попасть, я вряд ли заставлю ее что‑нибудь с ними сделать. Так или иначе, что‑то от Ады в ней есть; может быть, она и ничего.
Странное вчера у нас было собеседование. Я выбрался в сад подышать, впервые после дождя. Яблони цветут вовсю, и какое‑то время мне чудилось, что сюда доносится шум транспорта с магистрали, которая рассекла и разрушила этот городок; но потом я прислушался и понял, что это тысячи пчел, все в пыльце по самое брюшко.
Я был на костылях, проделывал свои восемь отрезков туда и обратно по дорожке, где по краю сада растут сосны. Там ровно, и дорожку для меня вымостили. Но восемь отрезков – это тяжело. Четыре – это все, чего мне хочется, шесть одолеваю с большим трудом, после восьми я еле живой. Каждый мах и тык отдается болью от пятки до плеч. Когда наконец добредаю до кресла, ощущение такое, будто вся кровь в моем теле, разогретая до четырехсот градусов по Фаренгейту, сосредоточена в несчастной культе. Полчаса уходит, чтобы оправиться от того, о чем я вбил себе в голову, что это полезно.
Поэтому я не был огорчен, когда увидел посреди пятого отрезка, что через калитку в нижней части двора, к которой ведет дорожка от дома Хоксов, прошла молодая женщина. Я понял, кто она, вернулся в свое кресло и стал смотреть, как она приближается.
Она не такая крупная, как Ада, – скорее среднего роста, фигура сносная, и эта женская привычка загребать ладонями при ходьбе. Волосы спадают на спину, и она то и дело отбрасывает их резкими движениями головы. Когда я жил в Беркли среди множества длинноволосых, этот взмах головой всегда меня раздражал – что у мужчин, что у женщин. Если длинные волосы так мешают, почему бы их не остричь или, в крайнем случае, не убрать, сделав себе классический пучок и челку? Но когда она, дойдя до нижнего ряда яблонь, подняла голову и задержалась на несколько секунд, я записал очко в ее пользу. До этого, выехав в сад, я приостановил кресло ровно в том же месте, потому что именно там к пряному аромату глицинии, висящему вокруг дома, примешивается свежесть яблоневого цвета, творя смесь, которая заставила меня вздернуть макушку. Между теми, кто воспринимает такое, и теми, кто нет, я выбираю воспринимающих.