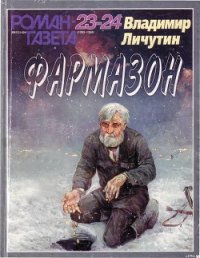Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
«...14 апреля... Не знаю, что делать. Третью пятницу подряд Марфинька сбегает к себе на квартиру. Может, нанять детектива, чтобы проследил? Так душе претит... Подходит назначенный день, и словно черт вселяется в бабу, так корежит ее и мучит; ночью-то хороша, слов нет, такой игруньи я не знавал прежде, да, пожалуй, другой такой во всем белом свете не сыскать. Откуда что берется. Внешне – ангел, сама кротость, а внутри – бездна, огнь пылающий; батюшки мои, сгореть не диво. Да и хочется сгореть-то, превратиться в уголек, закатиться на дно ее сердца и там затаиться, вот в чем грустная истина. Может, ради Марфиньки только и годы коротал: это Господь поднес подарок, но, боюсь, не по моим рукам, не по моим страстям. Порою такой ужас вселяется в сердце. В самую безумную минуту, когда возносит всего, вдруг гляну в запрокинутое лицо, на прикушенные губы, на сомкнутые глаза в синих провалах, куда выкатилась мерцающая слеза, так вот гляну в лицо особым пристальным зрением, вовсе лишним, не ко времени, и тут ясная мысль так и ожгет, как кнутом: сбежит Марфинька от меня, утеряю ее навсегда, не моя она, случайно досталась. Чую по каким-то крохотным заметам: вот, словно бы жует языком какое-то чужое желанное имя, катает во рту, как леденец, и боится, что выскочит оно наружу, и разом все откроется... Но неужели можно так ловко притворяться, так искренне играть, так вычурно манежиться в постели, так бесстыдно выворачиваться изнанкою и, даже отдаваясь каждой мясинкою похотного тела, таить в себе измену, хранить себя для других наслаждений? Не верю... Не могу поверить, не мо-гу... Хоть убейте меня... Откуда сомнения, откуда неверие и подозрительность, из каких подвалов они, – не знаю... Но, увы, все человечество живет подсознанием, тьмою, древним преданием, инстинктами, и сознание наше, даже укрепленное вроде бы верою в Спасителя, отступает перед темными вихрями и поднимает руки...»
3
Люди по всякому поводу уходят в отшельники: от утраты последних надежд, от счастия иль ненависти ко всему миру, от радости иль изнуряющей хвори, когда весь белый свет уже не мил. Какие-то обстоятельства вдруг загоняют человека в берлогу, и на волю – ни ногой, словно бы нет ничего в жизни краше добровольной тюремки... Кричат: де, свобода, сво-бо-да! Да от такой свободы взвоешь, когда впереди ни цели, ни веры, но лишь сизая дымка гибельного марева, за которым навсегда скрывается все живое...
Вот и я, довольный и утешенный, заперся от неожиданного счастия в квартире, чтобы не расплескать его по капле, добровольно укрылся в норе, будто рак-каркун, лишь иногда выставляю наружу гибкие усы, как перископы, и, выпуча сумасшедшие глазенки в окно, наблюдаю безмолвно утекающие в прорву дни, считываю взглядом с угрюмого московского неба плывучие миражи – отражения столичной жизни – и жду богоданную, что ушла в магазин. Никого видеть не хочу, ей-ей, ни-ко-го, кроме Марфиньки! Даже на балкон не вылезаю, чтобы случайно не столкнуться с соседями... Живут себе и живут, как на другом краю планеты, а мне и не хочется знать о них без особой нужды. Хорошо бы навек закрыться от чужих шершавых глаз, чтобы не оприкосили, не обавили, не навели порчи. Как ладно бы все часы остановить, изъять все календари, утратить всякое упоминание времени, придуманного умниками. Но завтра пятница, и есть для Марфиньки в Москве одно заповедное, привадное место, которое, наверное, медом намазано. И по легкому сумасшествию, что внезапно овладевает гуманитарной барышней, по тоскливому взгляду, каким она обводит уставленную книгами квартирешку, по той меланхолии, в которую погружается вдруг Марфинька, собравшись в грудку в излохмаченном кресле, пропустив меж колен ладони, уставя задумчивый взгляд в никуда, я понимаю с грустью, что моя милая женщина намеревается сбежать. И что бы ни произнес я в эти часы, какое бы умное, доброе слово ни вымолвил, подруга не отзовется, но лишь после окрика безучастно посмотрит в мою сторону, как на побеленную стену, и тускло спросит: «Ты, кажется, чего-то сказал?»
– Я говорю, что пора обедать... Твои фаршированные, нарумяненные, горячие перчики в сковороде походят на крохотных куничек в гнезде, ожидающих мамку с охоты. Но когда они остынут, то, скорее всего, станут напоминать столовские беляши и запрудят брюхо, точно камни. И будет несварение желудка, после изжога, загрудинные боли, плохие нервы, бессонница, чувство тревоги и всякие иные каверзы, и любовь слиняет, утратит остроту и свежесть... Такие вот беды происходят с людьми, когда они забывают о логических системах сбоев иль сбрасывают их со счетов. Простое превращается в сложное и требует уже оперативных вмешательств... Значит, каждому овощу свое время, которое нельзя упустить.
Мои словесные выкрутасы вызвали в Марфиньке неожиданное раздражение:
– Неужель ты так проголодался? Давно ли, кажется, ели...
– Ну-у... И что?
– Куда в тебя столько влезает? – Марфа немилостиво осмотрела мое худое кособокое тело, намекая на мои природные изъяны. – Штаны-то хоть бы, дружочек, подтянул, мотня висит до колен... Господи, каждый день еда, еда. И неужели так всю жизнь?.. Сплошная тоска... Уборка, стирка, еда... И нет ничего другого? Противные вы, мужики. Вам служанку подавай, а раз денег нет содержать, то нанимаете в прислуги жену. И бесплатно, и все тридцать три удовольствия... Запряжете – и давай погонять: то дай, то выложь, а лучше, чтобы все сразу: и отел, и котел.
Прежде Марфинька так шумно не заводилась. Значит, уже вошла в роль жены, которой изрядно поднадоела семейная жизнь, иль в самое короткое время ее душевные симпатии ко мне подплавились и при первом же перегрузе вызвали короткое замыкание. Скоро наше сознание окончательно погрузится во тьму, и вспыхнет гроза, перемежаемая раскатами грома, похожего на пушечную канонаду, и блескучими молоньями. Я смотрел в ее раскосые глаза, на губы дудочкой, похожие на раскаленный от стрельбы миномет, на хищные крылья носа, напоминающего турецкий ятаган, на лохмы тусклых, крашенных хною волос и наполнялся ответным раздражением... Все в Марфиньке было вздорным, несуразным, почти безобразным. И как же она походила сейчас на прежних моих жен (и всех баб мира), как будто отформовали ее в том же литейном цехе, отлили, отрихтовали и пустили в свет. «Господи! И эту крикливую профурсетку я только что любил? Где были у меня глаза?.. Да пусть убирается ко всем чертям, чтобы духу ее возле не было. Угрелась, стерва, а теперь давай тявкать!..»
– Чего ты орешь!.. Че-го-о тебе от меня надо еще!.. – закричал я и мысленно грубо обозвал Марфиньку. – Ну хочу есть, хочу! Тебе жалко?
Я вдруг, как бы со стороны, услышал свой мерзкий, надсадный голос и устыдился его. Я подпал под чужой истерический всплеск, бабий вздор вобрал глубоко в себя и отравился им, невольно наполняясь незаслуженной гнетущей обидою.
– Я не ору... Это ты орешь... Я тебе нужна для подстилки, попользовался и выгнал... Он прохвэссор! Подумаешь!.. А я для тебя кто – курица с лапшой?.. Я не через постель кандидатскую-то писала. Я вкалывала... У меня кровь из носа текла от напряжения. Я тебе душу на блюдечке... На, пользуйся. Да только тебе моя душа не нужна... Тебе нужна резиновая кукла.
Марфа заплакала и сразу подурнела, поползла пудра, открылись на коже поры, похожие на пчелиные соты, тушь поплыла по щекам, раскрасила в цвета побежалости припухлое кукольное личико. Всхлипывая, водрузила на стол сковороду с фаршированными перцами, зло бросила вилку:
– На жри!.. Да не лопни!
– Наглая баба... Как с цепи сорвалась... Ну и стерва же ты, – холодно, отстраненно, неожиданно, трезвея умом, протянул я, оглядывая Марфиньку взглядом азиата-работорговца, и нашел, что вся цена приблудной московской женщины – ломаный грош. – Этой бы сковородой... да по вывеске...
– Ну, ударь!.. Ты этого хочешь? – Голос ее сломался. Увидела мой ненавистный испепеляющий взгляд, вставшие топориком брови и вздрогнула от испуга иль от смущения и поплелась в комнату, как побитая дворовая собачонка, испуганно откляча зад. Я смотрел вослед ей, как бы считывая шаркающие шаги, и душа моя уже ныла, виноватилась, звала Марфиньку к примирению, просила прощения. Но я угрюмо ворчал, сникая голосом: «И что еще дуре надо? Это я подстилкой выстлался, каждое слово ловлю, стою на задних лапах... Ну не любишь, так и скажи: «Хромушин, ты не в моем вкусе. Я тебя не люблю. Ты мне противен». И все... Точка... Насильно мил не будешь... И разбежимся, как в море корабли. Зачем звать бурю, зачем? Почему люди не хотят жить миром и ладом? Ну, хорошо, я виноват, допустим. Так ты смолчи, не выступай! Откуда столько больного себялюбия. От-ку-да!..»