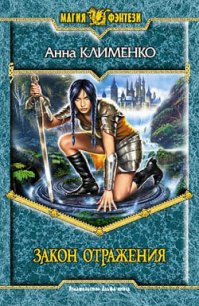Осенний свет - Гарднер Джон Чамплин (читать книги бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
— На вот, Рут, — сказал Джеймс. — Присядь.
— Ах, спасибо тебе, Джеймс, — отозвалась Рут и, усаживаясь, взглянула на Лейна Уокера. — Ну чего улыбаетесь? — спросила она. — Будто кошка, которая съела канарейку!
— Сейчас скажу, — ответил Лейн, вдруг приняв озорное решение. — Я думал о том, как страдает порой от сознания собственной вины бедный заблудший человек, который не убежден, в отличие от образованного, правоверного христианина, в том, что ему обеспечено вечное спасение, достаточно обратиться душой к господу нашему Иисусу Христу.
— О чем это вы, господь с вами? — спросила Рут и, так как его гномическая улыбка была заразительна, тоже улыбнулась.
— О тех, кто в беде обращается к вину, а не к Иисусу. О людях, ожесточающих сердце свое против братьев своих и сестер!
Рут выпучила глаза.
— Ну, Лейн, — сказала она, — перестаньте сейчас же.
Но его было не остановить.
— И о людях, иногда даже служителях божиих, которые не умеют протянуть руку бедному заблудшему в темноте его и сказать: «Брат, Бог прощает тебя, и даже я прощаю тебя».
Джеймс испуганно покосился на мексиканца. Но тот стоял и улыбался, похожий на большую, кроткую лягушку. Глаза их, патера и Джеймса, случайно встретились, и оба машинально кивнули.
— Ага! — воскликнул Лейн. — Добрый знак! Обмен любезностями! Аллилуйя!
Эд Томас улыбнулся и опять закрыл глаза.
— Ну, знаете ли, — сказала Рут. — Удивляюсь, как это вас до сих пор не лишили сана за такое насмешничество над религией.
— Это не насмешка, — сказал патер, и даже Джеймс Пейдж понял, что он прав. — Это и есть религия.
5
Когда вошел Льюис с Джинни, все на минуту замолчали, даже Рут Томас не нашлась что сказать. Несчастный случай совершенно преобразил Джинни, и, хотя вскоре ей предстояло стать такой же, как прежде — за одним исключением, известным покуда одному Льюису, — сейчас, глядя на нее, трудно было представить себе, что она когда-нибудь будет прежней Джинни. Белая как полотно, правая бровь наполовину сбрита, и от брови к волосам тянется страшный, туго стянутый шов. Если бы ящик угодил на три дюйма правее, сказал Льюису доктор, то есть попал бы ей в висок, он бы ее убил.
Первым молчание нарушил Джеймс.
— Здравствуй, Джинни, — сказал он и, шагнув ей навстречу, коснулся ее плеча.
Она улыбнулась растерянно, будто бы узнала отца, но все-таки не совсем.
— Бедняжка, — сказала Рут и оперлась на подлокотники, чтобы встать.
— Не вставайте, — остановил ее Льюис, все еще держа жену за руку. — Нам все равно пора ехать. Еще за Дикки надо зайти. — И сказал через ее голову: — Здравствуйте, Эд. Ну как вам, получше?
— Закругляюсь, — ответил Эд и приподнял руку, словно хотел помахать ему.
— Вы еще нам всем покажете, — сказал Льюис. Он посмотрел на Лейна Уокера, потом на Рейфа Хернандеса, кивнул тому и другому, робея и торопясь распрощаться. — Доброе утро, ваше преподобие. Доброе утро, сэр.
Они ответили ему, а он уже пятился к двери. Джинни непонимающе оглянулась, когда он потянул ее за руку, но послушно пошла за ним. Джеймс попрощался и вышел следом.
В машине старый Джеймс сел сзади слева и всю дорогу ехал, положив руки на спинку Льюисова сиденья и подавшись вперед, чтобы видеть сидящую впереди справа дочь. Ехали молча. Джинни глядела прямо перед собой, и выражение ее лица пугало, потому что не было выражением, и улыбка была без юмора и даже вообще без жизни. Горло Джинни было в точности как лицо Эда в палате — такое же белое, голубоватое, цвета январских теней на снегу.
— Что они говорят, Льюис? Джинни поправится?
— Говорят, да.
— Значит, так оно и будет.
— Надеюсь.
Свернули на Плезант-стрит. Домишки маленькие, обшарпанные, у тротуара чей-то «фольксваген» с незакрашенным крылом.
— Куда это мы? — спросил Джеймс.
— За Дикки, — ответил Льюис.
— А, ну да. Я забыл.
Льюис остановился перед темно-зеленым домом и вышел из машины. Джеймс все так же не отводил глаз от Джинни. Он еще ближе придвинулся к ней сзади и спросил:
— Тебе больно, голубка?
Помедлив, она повернула голову и посмотрела на него. «Господи, молю Тебя», — мысленно прошептал он. Это была его первая молитва за долгие, долгие годы, первая с того дня, как умерла жена, и он тогда старательно записал в свой фермерский блокнот молитву о каре, о понимании или хотя бы о смерти. Теперь он молился совсем о другом.
Но тут появился Льюис, ведя за руку Дикки — с порога их провожала молодая худая женщина в халате, а может, не женщина, а девочка, не разберешь, — и Дикки тоже полез в машину, на заднее сиденье. Выхлопные газы так и хлынули вслед за ним в открытую дверцу.
— Ты выздоровела, мамочка? — спросил мальчик.
— Да, детка, — ответила она. Мужчины изумились. Но в следующую минуту она уже снова была где-то далеко.
— Она меня узнала! — с торжеством сказал Дикки, не давая отцу захлопнуть дверцу.
— Я видел, — сказал Льюис. — Забирайся поглубже.
Старик помахал рукой, разгоняя выхлопную вонь. Льюис закрыл за сыном дверцу, обошел машину, сел за руль и задом выехал на мостовую.
— Странно, что она узнала Дикки, а родного отца нет, — сказал Джеймс.
Льюис усмехнулся, и они в молчании поехали дальше.
Мысли Джеймса вернулись к Эду, который лежал сейчас в больнице и, может быть, умирал. Так он считал сам, и на то было похоже. И все из-за него, Джеймса Пейджа, и из-за его сестры Салли. Ему вспомнилась история с белым медведем. Как он мог забыть! Небось ведь слышал сто раз. Пока Эд рассказывал, он так ясно представил себе коляску, взбесившегося коня и ее с развевающимися светлыми-светлыми волосами. Он помнил, как один раз подсадил ее к себе, когда ехал в двуколке, помнил гнедую темнохвостую лошадь в упряжке и вожжи с блестящим набором, переброшенные через оглоблю. Помнил улыбающееся, круглое лицо Арии, две ямочки, маленький, изящный нос. Она не была так уж хороша, не то что Салли, зато она была хорошая, любящая и милая — Салли до нее как до неба. Он мысленно разглядывал запечатлевшуюся в памяти картину: Ария, освещенная солнцем, смотрит на него, подняв голову, вожжи висят — а это значит, что он, Джеймс, сейчас должен спрыгнуть на землю и подсадить ее; но как он спрыгнул, он почему-то не помнит, не помнит и своих слов, которым она улыбалась, если она улыбалась его словам, — ничего не помнит, ни где, ни когда...
Осеннее небо было все так же ясно; внизу под дорогой открылась долина, а за ней — горный кряж, топорщившийся колкими древесными вершинами; в долине — их деревушка, будто игрушечная, рождественская, и, кажется, сейчас пойдет искусственный снежок, зажгутся праздничные огоньки. Джеймс подумал про «Укромный уголок» Мертона, вспомнил пьяного писателя, как он обернулся и смотрел на него, смотрел во все глаза, словно хотел взять и использовать, вставить в какую-нибудь книгу. Ну и что, пусть себе, неуверенно подумал Джеймс. Мистер Рокуэлл вон вставлял людей в свои картины, настоящих, живых людей, Джеймс Пейдж многих из них знал: кузину Шэрон О'Нийл, и жену Ли Марша, и миссис Крофут, а раз или два даже саму Бабушку Мозес. И ничего в этом худого. Правда, у мистера Рокуэлла вообще ничего худого в мыслях никогда не было. Потому он и добился, чего хотел. Он хотел писать все так, как могло бы быть, он это однажды объяснял школьникам, — так, как иногда и вправду бывает, только люди не видят, спят. Его всегда считали счастливым человеком, он и был по-своему счастлив: жил в окружении своих близких, получал деньги за то, что все равно делал бы так и так; да только в Арлингтоне говорили, что он не всегда такой уж счастливый, а бывает мрачнее самой черной тучи, будто горем убитый, и Джеймс сам имел случай в этом убедиться.
Наверно, все вермонтцы — пессимисты, но художник не просто ожидал самого худшего, он еще неотступно о нем думал. «Эта страна больна, — рассуждал он однажды на веранде у Беламов, а Джеймс Пейдж в это время, держа стакан чая со льдом, стоял на лужайке перед верандой (Джеймс привез Беламам дрова, и миссис Белам угостила его чаем). — Христианский мир болен. Я и сам порой чувствую, что стал немного шелудив». Все засмеялись, и мистер Рокуэлл тоже. Но, садясь в грузовик, Джеймс оглянулся, еще раз посмотрел на высокого, худощавого художника и понял по его лицу, что это была не шутка — по крайней мере насчет страны и христианского мира; что, как ни легко, ни спокойно ему живется в этой глухой, солнечной вермонтской деревне, где еще продолжается девятнадцатый век, его грызет беспокойство, и он курит день и ночь, в точности как Джинни, и по временам хмурится, тоже как Джинни иной раз, когда думает, что на нее не смотрят. Он работал как одержимый, рассказывали те, кто близко его знал, работал сидя или стоя, ноги широко расставлены, прямая трубка закушена длинными желтыми зубами, в голубых глазках — неистовый блеск. Работал так, будто его картины способны остановить распад, — а ведь тогда еще мало кто из людей видел беду.