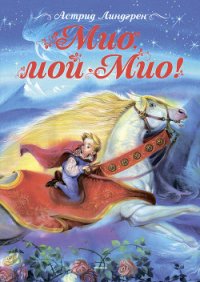Земля воды - Свифт Грэм (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
47
ДОБРОЙ НОЧИ
Она не поднимает головы, когда я ухожу. Она позволяет осторожно обнять себя и поцеловать, без ответа, но и без сопротивления, так что прикосновение губ к ее виску, к безропотной макушке, больше всего похоже на – как поцеловать ребенка на ночь. Она сидит у чужой кровати. Она не поднимает ни руки, ни взгляда, когда я в последний раз оборачиваюсь посмотреть на нее сквозь армированное проволокой стекло больничной двери. Она не смотрит на меня с потерянным видом из-за решеток, когда я иду к воротам по мокрому больничному асфальту.
Ощущение бесконечного расставания. Чувство, будто на самом деле это не я уезжаю, а она удаляется в смутную и невозвратную даль, а я стою раскинув руки, скрадывается собственным моим движением, ее пассивностью. Видимой функциональностью моего визита (навестить жену, застывшую в ожидании каких-то психотерапевтических процедур, и привезти ей кое-какие личные вещи). Скрадывается жизнеутверждающим прогнозом сестры-сиделки (да, конечно, никаких ограничений – в любое время с двух до семи, в разумных пределах… и не беспокойтесь вы, мистер Крик, вашу жену скоро выпишут…). Отблесками бледного солнечного света (пронзительно-голубые дыры меж несущихся по мартовскому небу облаков) на мокром, парящем потихоньку асфальте.
Вначале была история – ее рассказывали нам родители, на ночь. Потом она становится реальностью, превращается в Здесь и Сейчас. Потом – опять историей. Второе детство. Поцелуй и доброй ночи…
Мой уход – не предмет для скорби. Она скорбит о ребенке. О своем ребенке. О ребенке, которого у нее отняли и не хотят отдавать. О ребенке, которого – все об этом знают – послал ей Бог. Который нас всех спасет.
Вначале нет ничего; потом есть то, что случилось. А после того, что случилось, есть только рассказы о том, что случилось. Но иногда то, что случилось, не желает уходить и превращаться в воспоминание. Так что она до сих пор в самой гуще событий (приключение в супермаркете, что-то у нее в руках, зал суда, где она призывает Бога в свидетели), которые длятся и длятся. Отчего ей никак нельзя выйти из игры. Отчего ей никак нельзя выбраться наконец на безопасный, по эту сторону безумия берег оглядки на пережитое и отвечать на вопросы одетых в белые халаты врачей: «Ну а теперь расскажите нам, миссис Крик. Вы спокойно можете все нам рассказать…»
Он идет по мокрому асфальту с чемоданом в руке, как будто собрался в путешествие. Вот только в чемодане пусто, потому что одежда жены и несколько необходимых мелочей остались в больнице (в правилах строго-настрого указано: ни единого предмета, при помощи которого можно было бы причинить ущерб как другим пациентам и медицинскому персоналу, так и собственному здоровью пациента). Он так тщательно все собрал. А ей даже и неинтересно.
Набор жизненно необходимых – или необходимых для спасения жизни – воспоминаний. Черепаховый гребень (этим можно воспользоваться для нанесения ущерба?), купленный – помнишь? – в Гилдси, в мелочной лавке, морозной зимой. Кожаный бювар. Маленькая перламутровая шкатулка (но это уже ее выбор, эту она сама достала будто бы из ниоткуда – может, прятала где-нибудь с той самой жестокой зимы), а в ней серебряное распятье на цепочке. На подкладке с тыльной стороны крышки до сих пор сохранилась дарственная надпись, педантичным почерком Харольда Меткафа: «На твою Конфирмацию, Со Всей Любовью к Моей Милой Мэри, 10 мая 1941…»
Он идет к воротам. Наметанный глаз историка выхватывает на заросшем травой островке посреди асфальта каменную статую не то основателя, не то благотворителя (львиные черты лица, рука на лацкане фрака); и отмечает, на розовой гранитной плите, под датой и благодарственной надписью, словцо, которого современность, предпочитающая именовать такого рода заведения простым словом «больница» или, чуть менее вежливо, «психиатрическая лечебница», не в состоянии, в дань уважения его светлой памяти, стереть: «…приют».
Он проходит через ворота, сквозь них (поскольку никаких ограничений) ему еще ходить и ходить, чтоб навестить жену, которая пока еще даже и не вспомнила, что она ему жена; с которой в укромных уголках приютского – то есть больничного – подворья ему предстоит играть в печальную игру «а помнишь?». А помнишь поезд: из Хоквелла в Гилдси, из Гилдси в Хоквелл? А помнишь свекловичные поля? Тополя? Прогулку вдоль замерзшей Узы? Избегая в этих тряских заездах в общие (общие?) воспоминания то и дело попадающихся на пути запретных зон (видите, чуть до дела, ваш учитель истории и шагу в простоте не ступит на минное поле прошлого).
Пока он раскладывает перед ней свой товар, свою на шепоте и на увертках замешенную ностальгию, она глядит в окно палаты.
А может, амнезия, она и к лучшему…
Освобожденная на основании смягчающих вину обстоятельств (добровольное возвращение ребенка матери) и неполной вменяемости (но мы-то знаем об этих умниках-трюкачах, об этих мы-тебя-вытащим-безо-всякого-труда психиатрах) от обвинения в киднепинге и тем самым избежавшая возможного тюремного заключения, она сидит, в этой другой тюрьме, и все еще пытается доказать своим одетым в белые халаты стражам и распорядителям, что Бог…
В иную эпоху, в былые времена, ее, может быть, признали бы святой (или сожгли на костре как ведьму). Тот, кто слышит голос… Тот, к кому обращается… Может, они и снабдили бы ее всем необходимым для полного расцвета мании: уединенным скитом, положенными аскету свободами от писаных и неписаных законов, видениями и навязчивыми состояниями… Теперь ее сдают на поруки психиатрам.
Она смотрит прямо перед собой, сквозь высокое больничное окно. Она всегда сидит в одном и том же углу палаты: на том стоим и стоять будем. В палате пахнет сумасшедшими старухами. За окошком в погожие дни, надев пальто, прогуливаются по асфальту другие пациенты.
Она смотрит, с видом внимательным и себе-на-уме (обычный фокус здешних постояльцев: это они все сошли с ума, а не я), на этих хилых, копошащихся в песочнице детишек.
Ее глаза светлы. И моргают. Она руками обнимает ничто… Ему не спится по ночам. Его кровать пуста и затерялась в темном море. Он боится темноты. А когда он засыпает – какие ему снятся сны! Он один в этом большом, на смертный склеп похожем доме, где книжные полки расползаются из комнат в коридоры, где стильные безделки (ты и твое бегство в эпоху Регентства – ты и твои исторические костыли). Один, не считая собаки, которая отскакивает от него, потом осторожно подходит, снова отскакивает – наложенный ветеринаром проволочный лубок сняли с нижней челюсти буквально пару дней назад. Раненый ретривер, с которым еще предстоит налаживать дружеские отношения, медленно, терпеливо, а былого все равно не вернешь.
«Не бойся, Падди. Не бойся».
Он просиживает ночи напролет. Читает. Курит. В бутылке с виски понемногу убывает. Проверяет сочинения и конспекты (последний урожай за тридцать два года). Пьяные каракули, красными чернилами: аккуратнее. Придется поработать. Хорошо. Удовлетворительно. Плохо. Чтобы окончательно не впасть в тоску, он сам себе рассказывает истории. Повторяет те, что рассказывал в классе. Ох уж этот контраст между гулкими ночами и крикливым месивом дней: разговорчики в классе, бедлам на игровой площадке… Но теперь уже недолго ждать, когда они…
По выходным с утра – после обеда ехать в больницу – ветрено, Великий пост, он ходит в Гринвич-парк. Со своей зашуганной собакой. Вулф стоит на страже. Свежий солнечный свет на вечном великолепии. Старое доброе место, старая добрая Военно-морская коллегия. Зеленая трава и белые камни. Такие древние и девственно-чистые. Так любовно охраняемые (и в силу закона, и стараниями общественности). Хотя, если верить Прайсу…
Мы все бредем спиной к реальности, и всякий ищет свой приют.
Мартовский ветер рвет на части бегущие под всеми парусами облака. Синее небо сияет над нулевой долготой.
Лу-любовь. Лу-любовь.