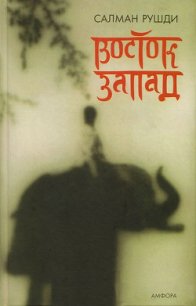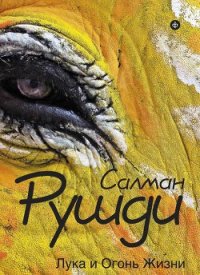Прощальный вздох мавра - Рушди Ахмед Салман (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
– Самое время за твоего папашу браться! Нам и Зогойби, и Резаный теперь по зубам, и все остальные. Ганапати Баппа морья! Кто против нас устоит?
Охваченный похотью власти, он взял парализованную ужасом Надью Вадью за изящную длинную руку и поцеловал ее в ладонь.
– Вот, я целую Мумбаи, я целую Индию! – выкрикнул он. – Смотрите все, я целую планету!
Ответ Надьи Вадьи потонул в реве толпы.
Вечером того дня я узнал из теленовостей, что моя мать упала и разбилась насмерть во время своего ежегодного богоборческого танца. Словно похвальба Филдинга начала оправдываться: ее смерть ослабляла Авраама и усиливала Мандука. В репортажах по радио и телевидению я ощущал нотки горестного раскаяния, как будто журналисты, обозреватели и критики сознавали, какую жестокую несправедливость вынесла эта яркая, гордая женщина, как будто они чувствовали свою ответственность за мрачное отшельничество ее последних лет. И, разумеется, в первые дни и месяцы после гибели Ауроры звезда ее засияла ярче, чем когда-либо, люди кинулись менять оценки и превозносить ее работы с бесившей меня поспешностью «скорой помощи». Если она заслуживает этих похвал сейчас, значит, она заслуживала их всегда. Я не знал женщины с таким же сильным характером, не знал женщины, столь же ясно понимающей, кто она и что она, – но она была уязвлена, и слова, которые, будь они сказаны вовремя, возможно, исцелили бы ее, прозвучали слишком поздно. Аурора да Гама-Зогойби, 1924-1987. Даты сомкнулись над ней, как морская вода.
На картине, которую нашли у нее на подрамнике, был изображен я. В своей последней работе, названной «Прощальный вздох мавра», она вернула мавру всю его человеческую сущность. Он уже не был ни абстрактным арлекином, ни мусорным коллажем. Это был портрет ее сына, скитающегося в лимбе, как бродячая тень; портрет человеческой души в аду. А позади сына – мать, она сама, уже не на другой створке диптиха, а воссоединенная с несчастным султаном. Не осуждающая – плачь же, как женщина, – но испуганная, протягивающая к нему руку. Это тоже было запоздалое раскаяние, это было прощение, плодами которого я уже не мог воспользоваться. Я потерял ее, и картина только усилила боль потери.
Мама, мама. Теперь я знаю, почему ты отреклась от меня. Моя великая покойная мамочка, моя облапошенная родительница, моя дуреха.
17
Владыка не подполья, но надкрышья – несгибаемый, упорствующий, всевластный – клекочущий в смехе, угнездившийся в поднебесном висячем саду, богатый сверх безумных мечтаний любого богача, Авраам Зогойби в восемьдесят четыре года тянулся к бессмертию, длинноперстый, как утренняя заря. Всегда боявшийся безвременной смерти, он дожил до глубокой старости; Аурора умерла первая. Его здоровье улучшалось с годами. Он по-прежнему прихрамывал и испытывал трудности с дыханием, но сердце его билось сильнее, чем когда-либо после Лонавлы, взгляд стал зорче, слух острее. Он смаковал пищу, словно пробовал все впервые, и в бизнесе его нюх был безошибочен. Подтянутый, бодрый духом, крепкий физически, активный сексуально, он уже обрел свойства божества, уже высоко взмыл над людской массой и, разумеется, над утесом Закона. Не для него извилистые словопрения, установленные процедуры, бумажная волокита. Ныне, после падения Ауроры, он возжелал отвергнуть смерть как таковую. Порой, оседлав высочайшую иглу в огромной яркой подушечке южного Бомбея, он дивился своей судьбе, переполнялся чувством, смотрел вниз на освещенное луной море и словно бы видел под его переливчатой маской разбитое тело жены посреди угрюмых крабьих перебежек, звяканья раковин и ярких ножевых рыбьих взмахов – целый буфет разобранных по сортам столовых принадлежностей, режущих на ломтики ее гибельное море.
– Не для меня, – решал он. – Я только начал жить.
Когда-то на южном побережье он увидел себя как часть Красоты, волшебного кольца, второй половинкой которого была своевольная юная красавица. Он страшился за эту хрупкую прелесть, столь уязвимую перед лицом земных, морских и человеческих мерзостей. Как давно это было! Две дочери и жена умерли, третья дочь отправилась к Иисусу, а старомолодой сын – в ад. Как давно блистала его красота, которая сделала его любовным заговорщиком! Как давно неосвященные обеты обрели законность благодаря силе их желания, подобно тому, как спрессованный тяжкими эрами уголь превращается в светоносный алмаз! Но она отвернулась от него, его возлюбленная, она не выполнила свою половину сделки, а он потерял себя в своей половине. Во всем, что было мирского, что было от земли и природы вещей, искал он возмещения за утрату возвышенного, преображающего, бесконечного, чего он вкусил в любви. Теперь, когда она ушла, оставив весь мир в его руках, он кутался в его великолепие, как в золотой плащ. Назревают войны – он выйдет из них победителем. Виднеются новые берега – он возьмет их приступом. Он не повторит ее судьбу.
Ее удостоили государственных похорон. Он стоял в соборе у ее открытого гроба и обдумывал пути будущих обретений. Из трех опор жизни, какими являются Бог, семья и деньги, у него была только одна, а нуждался он как минимум в двух. Минни пришла проститься с матерью, но выглядела что-то слишком уж радостной. «Благочестивые радуются смерти, – думал Авраам, – для них это врата в чертог Божьей славы. А на самом деле там пустая каморка. Бессмертие – здесь, на земле, и за деньги его не купишь. Бессмертие – в династии. Мне нужен мой блудный сын».
Обнаружив записку от Авраама Зогойби, аккуратно засунутую под мою подушку в доме Рамана Филдинга, я впервые понял, насколько возросла мощь моего отца. «Знаешь, кто такой есть твой папаша в его небоскребе?» – спросил меня как-то Мандук прежде, чем разразиться бешеной тирадой об антииндусских роботах и всем таком прочем. Найденная под подушкой записка заставила меня задуматься о том, сколько еще всего скрыто от глаз: здесь, в святая святых подпольного мира, небрежно продемонстрировав длину своих рук, Авраам дал мне понять, что будет страшным противником в предстоящей войне миров, войне подполья с надкрышьем, священного с безбожным, Бога с Маммоной, прошлого с будущим, канавы с небом – в смертельной схватке полюсов власти, во время которой я, Надья Вадья, Бомбей и сама Индия окажемся стиснутыми и беспомощными, как пылинки меж двумя слоями краски.
«Ипподром, – гласила записка, написанная его рукой. – Паддок. Перед третьим заездом». Сорок дней прошло с тех пор, как в мое отсутствие, под гром пушечного салюта, похоронили мать. Сорок дней – и вот оно здесь, это волшебным образом доставленное и донельзя банальное послание, эта увядшая оливковая ветвь. «Не пойду, разумеется», – подумал я с предсказуемой злостью. Но столь же предсказуемо и тайком от Мандука я отправился.
На ипподроме Махалакшми дети играли в анкх мичоли (прятки), лавируя между ногами густо стоящих взрослых. Вот, думал я, кто мы друг для друга, разделенные границей поколений. Понимают ли звери джунглей, какова подлинная природа деревьев, меж которыми проходит их повседневное существование? В родительском лесу, среди его мощных стволов мы прячемся и играем; но какие деревья здоровые, а какие больные, в чьих кронах живут добрые, а в чьих злые духи – этого нам знать не дано. Не знаем мы и самой великой тайны: что когда-нибудь мы станем такими же древесными, как они сейчас. А деревья, чью листву мы поедаем, чью кору грызем, с грустью вспоминают, что раньше они были зверями, карабкались, как белки, и прыгали, как олени, пока однажды не остановились, призадумавшись, и не вросли ногами в землю, не пустили корни и не покрыли зеленью свои качающиеся головы. Они помнят это как факт; но живую реальность их фаунских лет, чувственный опыт хаотической свободы память их восстановить не в силах. Они помнят это как шелест в их собственной листве. «Я не знаю отца, – думал я у паддока перед третьим заездом. – Мы чужие друг другу. Он не узнает меня, когда увидит, и слепо пройдет мимо».