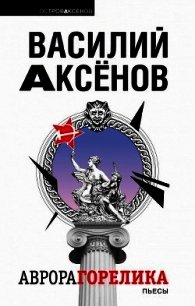Скажи изюм - Аксенов Василий Павлович (лучшие книги читать онлайн бесплатно .TXT) 📗
Мне нравится, что Настя на сто процентов русская, сказала она за чаем, быстро-быстро замигала, скривила рот, борясь с рыданиями, не выдержала – разрыдалась. Мамулька, мамулька! Ах, Рюша, оставь!
Провожая гостей, Капитолина Тимофеевна на сына не смотрела, но с Настей подчеркнуто разговаривала, демонстрировала неизвестно откуда взявшийся интим, а в конце всех уже просто-напросто огорошила – подарила невестке одну из трех своих лисьих шуб.
Ну и ну, сказала Настя на улице, ну и ну. Октябрь вышел их проводить, и сейчас под медленно парящим снегом трое родственников да князь Долгорукий на коне были одни на исторической площади, если не считать деликатно пыхтящего под аркой патруля «фишки», да компании пьяных грузин возле своего московского посольства, то бишь ресторана «Арагви», ну да и еще десятка случайно пробегавших и недостойных описания ночных прохожих.
Завтра иду к министру, сказал Октябрь. Ничего хорошего не жду. А мне что посоветуешь? – спросил Максим. Ничего не посоветую. Они в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Когда-то я тебя любил, сказал Максим. Пойдем-пойдем, потянула его Настя. Спасибо за чудный вечер, Октябрь, затараторила она в совершенно неуместном светском стиле. Теперь мы вас у себя ждем. Ему к нам нельзя, пьяновато пояснил Максим. Не залупайся, пьяновато посоветовал Октябрь. Главное, не залупайся. И остерегайся стукачей. Среди моих друзей стукачей нет! Пятьдесят процентов! – пьяновато крикнул Октябрь, вдруг помчался к остановившемуся такси, уговорил шофера и уехал в неизвестном направлении.
Ну и ну, задумчиво промычала Настя, ну и шубка. Я и не мечтала о такой. Нам тоже надо найти такси, ты пьян. Вот, Настюха, какая вокруг нас советчина, бормотал он, с удивлением оглядывая площадь своего детства, вот какая простирается советчина... Октябрь тебя запугивал, вдруг сказала она. Ты заметил? Он выполнял задание. Тебе не кажется? Какая же ты хитрая, оказывается, Настя, какая ты опытная диссидентка, откуда у тебя эта лисья шубка? Мамулька в этой шубке была когда-то, знаешь ли, неотразима...
Завьюжило
I
В Москве принято было думать, что Георгий Автандилович Чавчавадзе непомерно богат. На самом деле у него на сберкнижке лежало восемь сотен, не более того. Таков уж был человече, частенько вместо слова «жить» употреблял слово «кутить». По инерции иной раз и завтрак с яйцом и кефиром именовал «кутежом». Впрочем, ужин на тридцать персон, в котором немедленно прокучивалось многомесячное фотографическое вознаграждение, называл порой «легкой закуской».
В связи с этими обстоятельствами Георгий Автандилович, получив из издательства первый отказ, сразу стал прикидывать, что продать – золотые часы, стереосистему, коллекцию жуков (но как ее продашь, если ей цены нет?), стал также соображать, как и через кого достать «левую работу», то есть вполне хладнокровно стал готовиться к осаде. Отказ был необоснованный и сформулирован с обидной официальной тупостью: «К сожалению, мы не можем принять вашу последнюю серию, поскольку она страдает очевидными идейно-художественными провалами». Еще неделю назад какая редакция могла бы такую чушь адресовать Георгию Чавчавадзе? Сомнений не было: из секретариата, а стало быть, и из ЦК спущены директивы и «черные списки». Заслуженный деятель искусств восьми автономных социалистических республик ныне под запретом в своем отечестве! Что ж, вызов принят, милостивые государи, и капитуляции от меня вы не дождетесь – хватит!
В любой редакции у Георгия Автандиловича сидели симпатизирующие дамы, секретарши и младшие редактрисы; к Восьмому марта всегда шоколад и цветы от «самого элегантного фотографа Москвы». Такая дама примчалась и из издательства-обидчика. У нас все в панике, не понимают, что случилось, «главный» плакал, подписывая письмо, Георгий Автандилович, дорогой, повсюду разосланы списки, ой, я вам этого не говорила, вы этого не слышали, просто ужас!
Чавчавадзе успокоил даму, открыл бутылку коньяку, завел цыганскую музыку в исполнении эмигрантских певцов, оставил даму ночевать. Утром, когда завтракали, позвонил кавказский друг Кулан Кайматов. Что делаешь, Жора-дорогой? Да вот, понимаешь, кутим с прелестной Нинелью. Как всегда в таких обстоятельствах, Чавчавадзе усиливал кавказский акцент. Мы к тебе едем, Жора-дорогой! Да с кем ты, Кулан? С Кугулом, был ответ. Кулан Кайматов и Кугул Шалиев считались в советской фотографии как бы близнецами, хотя и происходили из разных республик, один из равнинной, другой из высокогорной. Предки одного поклонялись Магомету, другого – некоему солончаковому варианту Будды. Одни, конечно, кочевали с диким посвистом, другие, разумеется, висели оседло над пропастями. Всех уравняла советская власть. Она же побратала Кулана и Кугула. Пятилетка сменяла пятилетку, и все уже привыкли, что, если на трибуне появляется Кулан, неизбежно объявится и Кугул. Объясниться ли нужно в любви родной Коммунистической партии, приветствовать ли зарубежных друзей нашей фотографии, гневный ли поднять голос протеста против ядерных ковбоев Вашингтона или израильской военщины – во всех таких оказиях Кулан и Кугул были незаменимы, высокопарные, как придворные стихотворцы бухарского эмира, неутомимые в питье, а главное – национальные, живая иллюстрация огромных успехов ленинской национальной политики.
Иногда, правда, случались сбои в работе тандема. Напиваясь на банкетах, то один, то другой, а однажды и оба сразу, начинали посылать проклятия тому (или тем?), кто изгнал после войны с родных земель их малые народы. Вспоминали телячьи вагоны, в которых аксакалы древних племен отдавали Богу душу, вспоминали Азию, которую почему-то называют Средней, а надо бы Крайней-Жуткой-Последней, вспоминали избиение своего партактива местным, то есть среднеазиатским, партактивом... ну а иной раз даже выкрикивали коньячные глотки чуждый в общем-то их национальному самосознанию вопрос: «Кто виноват?»
И вот что значит «ленинские нормы партийной жизни»: партия не взыскивала со своих верных солдат-объективов за такие частные срывы. Гораздо важнее для партии была общественная позиция Кулана и Кугула, а также их творчество, в котором никогда не проглядывалось никаких подозрительных теней, а всегда чувствовались «глубокие и чистые родники народной жизни» (Ф.Ф. Клезмецов), большая любовь к родным краям, вот эти всякие прелестные «аргамаки», вот эти премудрые опять же «аксакалы» (в окружении смеющейся детворы), а также и зарубежные впечатления, полные интернациональной солидарности.
В этой связи уместно напомнить читателю и о поворотном моменте в жизни вождя советского фотоискусства, только что упомянутого Ф.Ф. Клезмецова. Ведь и сотой части проклятий в адрес партии, исторгнутых этим организмом, было бы достаточно для расстрела в прежние времена. Дело в том, что в прежние времена еще не проявилась в достаточной степени метафизическая суть партии. Она тогда все еще понималась как «авангард трудящихся», или там еще что-то материалистическое. Нынче партия в метафизической своей сути снисходительна к таким организмам, как Фотий Феклович или Кулан и Кугул, и они платят ей в ответ большой любовью.
А между тем «все мы люди, все мы человеки»: Кулан и Кугул пришли к Георгию Автандиловичу не с пустыми руками. Принесли прежде всего с веселым намеком первоклассного изюму «шашнадцать кило». Вот тебе, Жора, привет из наших долин! Тебя там все так любят – и простые труженики, и творческая интеллигенция! Вот тебе и коллекция вин с озера Азо, вот тебе и от твоего постоянного персонажа сказителя Ильдара бурка и кинжал. Вот тебе и устное приглашение самого Темрюкова в гости на какой хочешь срок. Примем, как царя! Слух был, Жора-дорогой, что испытываешь низкие материальные трудности. Это непорядок. Художник твоего масштаба должен кутить свою жизнь без низких материальных забот. Хочешь, поставим в Фотофонде вопрос о безвозвратной ссуде? Будет максимум – пять тысяч рублей! Квартира у тебя все ж таки тесновата для классика, товарищ Чавчавадзе. Надо новую получать в Атеистическом переулке. Лады? Надо здоровье беречь, дорогой, надо заявление на дачу подавать, вопрос будет решен положительно.