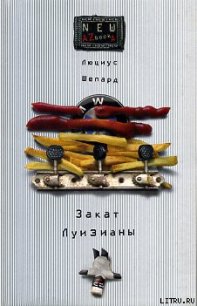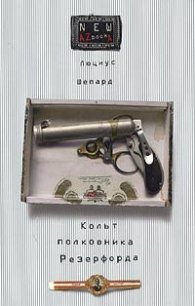Жизнь во время войны - Шепард Люциус (книги онлайн полные версии бесплатно txt) 📗
...смешно... – сказала она.
...что...
...я думала, где бы хотела с тобой жить, и решила, что лучше всего в каком-нибудь зеленом месте, зеленом и уединенном... зеленом...
Слово «зеленое» звучало в нем как связавшая их вместе струна, на долю секунды он ощутил ее и свое тело кинестетически – так, как чувствовала его в себе она, безмятежное тепло и радость наполнения.
...эдем... сказала она ...ни чужаков, ни законов, мы сами установим законы, как нам захочется...
Ее увлеченность заставляла его острее чувствовать собственное безразличие, но он не хотел сбивать ее с мысли.
...что же здесь смешного...
...я их всегда терпеть не могла: джунгли, горы... отец вечно таскал нас на природу... ему нравилось, нравилось, когда вокруг пусто... и после тюрьмы я столько насмотрелась и на джунгли и горы... мне они осточертели... но с тобой – с тобой я хочу жить в чистом месте, чтобы никто его не рушил и вообще не трогал...
Минголле хотелось крикнуть, чтобы она замолчала, потому что чем больше она говорила, тем сильнее ему казалось, что она не в своем уме – ну как можно радоваться и на что-то надеяться посреди этого кошмара, – он вошел в нее.
...Дэвид, о боже, Дэвид...
Он вцепился в ее ягодицы, он вламывался, сжимал ее до бесчувствия.
...я хочу, чтобы ты в меня кончил, Дэвид... сейчас... только в рот, я хочу в рот...
Слова заводили, он дергался еще несколько секунд, потом растерянно застыл. Лучи света сквозь щели занавесок, Деборина кожа переливается неровными полосами...
...что случилось, Дэвид...
...устал просто...
...давай остановимся, ничего страшного...
...наверное...
...можно утром... так даже лучше, потом я целый день буду чувствовать в себе твое тепло...
Он держал ее, но она уплывала, он приглаживал края ее мыслей, их сознания переплетались, как одежда в медленно закручивающейся сетке, и он вдруг увидел широкую пластину гладко отполированного золотистого дерева, ощутил себя Деборой, почувствовал тревогу и спокойствие, что составляли основу любого ее настроения, услышал, как веселый женский голос бубнит что-то о клиентах, которыми нужно заняться, он узнал, что эта женщина его... точнее, Деборина тетя Хуана, она в легком маразме, а Дебора учится полировать дерево, замечая, как на темных щепках, словно стилизованные волны, поднимаются гребешки, она поглядывает на застекленные полки с глыбами доколумбовых горшков, и ей очень хочется, чтобы тетя Хуана замолчала, одни и те же байки снова и снова – скоро папа не выдержит, и его придется успокаивать целую ночь, она бросает на него взгляд: крупный мужчина, круглый, как луковица, бесстрастное лицо, чем-то похож на тех, что нарисованы на горшках... Минголла снова стал самим собой, изумляясь этому контакту, всем своим попыткам постичь ее, ведь вот она, запертая в своих воспоминаниях о другом времени, эта смесь уравновешенности, беспокойства и наивности – каркас ее души, а под ним – хрупкое любопытство, приукрашенное надеждой на то, что мы – каждый из нас – все еще там, где даже не начиналась невинность. Затем другое воспоминание, такое короткое, что он успел уловить только боль, резкую вспышку, и его тут же закрутило потоком ее памяти, красноватым сиянием, как будто в прошлое уходил сам свет ее крови, воспоминания мелькали быстро, он с трудом отделял одно от другого, но тут поток замедлился, вошел в тусклый свет, в плотную темноту, пыльные, древние воспоминания, скрипучее старье, откуда-то возникла пожелтевшая кружевная вуаль, паутина памяти, что поднимается над коваными сундуками, отражает пыль, и пыль поет, опадая на пол, пение переходит в жалобный вой, словно коловращение крови, затем в голоса, видения и мысли, и вот он идет по саду с молодым человеком, солнце вышивает на камнях тени, чуть позади дуэнья, робкий шепот, знаки, позже боль от выкидыша, еще позже унылое понимание, что возлюбленный превратился в больного старика, потом звяканье стали, крики, серебряная кольчуга на голове лошади розовеет от пузырящейся в шейной ране крови, поток воспоминаний ускоряется снова, голоса и образы сплетаются в паутину золотого света с вытканным на ней бесконечным узором, он связывает узлом кровь, время и историю, клубок секса... Минголла выбрался из этой глубины с таким ощущением, что пролетел сотню этажей и упал на кучу перьев. Он был весь в поту, сердце колотилось, он с изумлением обнаружил, что Дебора все еще спит. Он попробовал соединить пережитое с теми намеками на магическую связь, которые постиг, работая с майором Кэйбел, но утонул в предположениях, смутных теориях и одно лишь видел ясно: контакт существует только благодаря их особой связи с Деборой, это были всего лишь вспышки и просветления, никакой реальной субстанции...
Ирма вздохнула, и Минголла поднял на нее взгляд. Она сидела прислонившись к стеклянной двери; реклама «Мальборо» с прикуривающим ковбоем висела у ее рта, словно словесное облачко из комикса. Руки укачивали несуществующего ребенка. Она протянула его к Минголле, и тот, все еще думая о Деборе, видя перед собой не пустоту Ирминых рук, а воспоминания об объятиях, сказал:
– Да... хорошенький мальчик.
Дождь лил каждое утро, каждый вечер, часто всю ночь, а когда переставал, начиналась жара; она казалась телесной: огромное прозрачное животное, что, припав к земле, выдыхает вонючее тепло. Углы развешанных по стенам плакатов отклеивались и сворачивались в трубки, горячее марево колыхалось над крышами и тротуарами, наводя на мысль, что все это баррио запросто может исчезнуть. Асфальт плавился, превращаясь в пасту, куски резины можно было отковырять пальцами. Армии бултыхались во влажном воздухе, мозги поворачивались вялыми толчками, словно застрявшие между оконных рам зимние мухи. Пот собирался в капли размером с мелкую луковицу, улыбки резкие и напряженные. Потом снова начинался дождь, разбивал на куски жару, брызги летели на асфальт, барабанили по крышам, оставляли следы на окнах, и, лежа по ночам в постели, Минголла чувствовал их непрестанный ритм, натугу, с какой события принимали свою форму. Нечто окончательное и сильное. Добро или зло – он не знал и не хотел знать. Над Минголлой висело заклятье тяжелой жизни, тяжелой погоды, и его не интересовало, чем это все кончится, его вообще не интересовало ничего, кроме каждодневных занятий.
Их поселили в пансион под названием Каса-Гамбоа, одноэтажный домик с розовой штукатуркой и внутренним двориком, в центре которого располагался бассейн с водой настолько грязной, что она выглядела «нефритовым сектором среди ярких плиток». На жердочках под провисающей крышей сидели попугаи, хихикали и многозначительно таращили глаза на прохожих; на грядках вокруг бассейна разрослась густая тропическая зелень. Через крытый переход в дальнем конце дворика можно было видеть азиата в инвалидной коляске, он целыми днями просиживал рядом с маленьким садиком и связывал разграничительные столбики бумажными ленточками. Горничной работала симпатичная смуглая женщина по имени Серенита. Все это словно пришло из рассказа «Придуманный пансионат». Минголла не удивился бы, если бы узнал, что живет в рассказе Пасторина (или Исагирре). Вполне возможно, он жил в нем с самого Роатана, и даже само его существование было в некотором смысле плодом сотомайорского воображения. Но тем не менее он находил определенное удобство в том, что оказался частью вымысла, жизнь внутри которого по ощущению стремилась таким вот странным образом изолировать его от жизни реальной, и все свободное от работы время проводил в их общей с Деборой комнате. Большая белая спальня – слишком большая для такой убогой обстановки: стул, стол, кровать и комод. Под потолком крутился скрипучий вентилятор, а у стены рядом с дверью возвышалось дешевое оловянное распятие; за крестом тянулись к потолочной лампе провода, и оттого казалось, что Христос каким-то образом участвует в передаче электричества. Фигуру покрывал тонкий слой краски, руки и ноги непропорционально длинные, а лицо не столько одухотворенное, сколько несчастное. Минголле было симпатично это воплощенное в распятии кривоватое состояние духа, и он не оставлял надежды, что нелепая наружность хранит в себе какое-нибудь чудо.