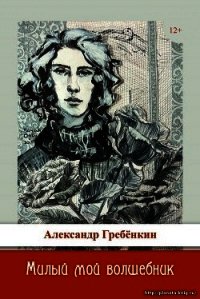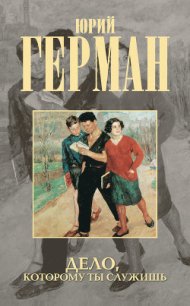Я отвечаю за все - Герман Юрий Павлович (книга регистрации txt) 📗
Инна Матвеевна слегка прикусила губку: зря он эдак сразу напролом пошел, мог бы и повежливее.
— О делах, пожалуй, мы тут толковать не станем, — сказала она насмешливо-начальственным тоном, — мы ведь в гостях, правда? А завтра или послезавтра, когда вам будет удобнее, вы ко мне заглянете, там и выясним все наши взаимные претензии…
Устименко ответил твердо и вежливо:
— Нет, Инна Матвеевна, я к вам не зайду.
— Почему же? У вас ко мне наверняка серьезные дела есть. Вы, как я слышала, какого-то даже иностранного подданного к себе привезли, чуть ли не из Германии, а уж отдел кадров…
— Гебейзен — австриец, — перебил Устименко, — рекомендован он мне моим старым товарищем, который его после лагеря уничтожения выходил…
Теперь перебила его Горбанюк:
— А вы в каждом человеке, который оказался почему-либо в лагере уничтожения, — уверены?
— То есть как это? — розовея от гнева, спросил Устименко. — Это крупнейший патологоанатом, который для нас находка и за которого я…
— Так вы все-таки зайдите!
— Нет. Не зайду. Штаты — дело мое. Я уже со многими людьми списался, и они ко мне приедут, а не в ваш отдел кадров…
— Значит, вы настаиваете на том, что мы вовсе не нужны?
— Предполагаю, что не нужны. А если хотите знать мое мнение поточнее, то пожалуйста: весьма странно выглядит в нашей системе здравоохранения табличка «вход воспрещен». Мало это привлекательно. Вот, допустим, если рентгенотерапия или лаборатория, еще понятно, а если ваше заведение…
— Заведение? — поразилась Горбанюк. — Вы можете так говорить? Но поймите же…
— Не хочу, — совсем рассердился Владимир Афанасьевич, — не хочу понимать и не понимаю, почему вы вдруг должны мне кого-то рекомендовать или не рекомендовать. Тогда сами и будьте главврачом, а вместо нашего брата посадите, что ли, смотрителей, как было в прошлом столетии. Какой же я главврач, если даже штат будет не мной подобран, а вами? Вот, например, Богословский, который ко мне едет…
— Ну и что — Богословский? — остро спросила Горбанюк. — Ведь он, насколько мне память не изменяет, другом был некоему отщепенцу Постникову? — Она перешла на шепоток. — Старожилам известно…
— В некоторой мере и я выученик Ивана Дмитриевича Постникова, — отнюдь не шепотом, а даже громче, чем следовало, резанул Устименко. — В той мере, в которой он уделял мне свое внимание. И слухам о нем я верить не желаю…
Тут Горбанюк даже чуть-чуть испугалась: вести такие разговоры ей еще не приходилось никогда.
— Ну уж это вы перегнули, — старательно улыбаясь, произнесла она, — разве могут быть такие ошибки?
— Все может быть, — буркнул он.
— И все-таки мы с вами встретимся, — сказала она, словно прощая ему весь разговор. — Встретимся и поболтаем. Может быть, и ваши соображения…
— А мои соображения простые, — весело сказал он. — Я давно про них толкую: использовать отдел кадров для медицинской статистики. Врачи вы все там, как правило, копеечные, ну а арифмометры крутить сможете. И народу у вас хватает, и ставок, а медицинская наша статистика в ужасном состоянии. И были бы вы не при больницах, а сами по себе, никто бы на вас не давил. Идея? А?
Горбанюк слегка поежилась и улыбаться перестала.
— При коммунизме, может, так и станется, — сказала она, — но пока рановато. Думаю, что вы это сами со временем осознаете и поймете ошибочность и даже вредность ваших взглядов. Впрочем, все-таки надеюсь, что мы повидаемся…
— Я упрямый! — сказал он. — И время рабочее жалею.
— Это можно понимать как объявление войны?
— Пугаете?
— Нет, — спокойно сказала она, — и даже не шучу. Порядок есть порядок. Вы обязаны явиться ко мне и вообще являться ко мне, когда я это буду считать нужным.
— Ну, а я это все вовсе не считаю нужным, — ответил Устименко. — Так мы с вами и условимся. У вас свой порядок, а у меня свой.
— В нашей стране один порядок.
— Это с вашей точки зрения. А мне работать не мешайте, это я уже совсем серьезно вам говорю…
И, слегка кивнув Инне Матвеевне, как бы прощаясь с ней, он обернулся к главному терапевту Месьякову, который очень нервничал, слушая разговор Устименки с Горбанюк. У главного терапевта были какие-то свои желчные счеты с местным гомеопатом Внуковым, которого он желал засудить в тюрьму. У Владимира Афанасьевича засосало под ложечкой, и тут его выручил Золотухин и, посадив ужинать рядом с собой, быстро спросил:
— Ничего, что от супруги оторвал? Я бы побеседовать с вами хотел…
Гостей был полон стол: и обкомовские, и исполкомовские, и медицинские, и снабженческие. Еще не подняли первую рюмку, как адмирал заметил, что деда опять за столом нет.
— Что ж папаша-то? — спросил он у Ираиды.
Та, наклонившись над чисто выбритой, сильно загорелой, крепкой шеей адмирала, сказала негромко, что дед в последние годы малость одичал и за общий стол, да еще при гостях, выманить его нелегко. Адмирал сжал челюсти — Алевтина-Валентина припомнилась ему, — поднялся и непривычными еще коридорчиками в мгновение оказался на кухне. Как шилом, больно кольнуло ему в сердце зрелище этой одинокой, собачьей, неприкаянной старости: посасывает самокрутку среди грязной посуды, объедков, под равномерный стук подскакивающей на чайнике крышки, смотрит слепо в стенку старик Степанов — «корень всему степановскому роду», — почему?
Почти зло (он всегда злился, когда болела душа) адмирал рявкнул:
— Ты что, отец? Не знаешь, что гости тебя ждут?
Старик вздрогнул, обрадовался, поднимаясь, слегка поскользнулся калошами, в которые был обут, еще более обрадовался, заметив, что Павла слышит слова сына, заспешил:
— Да мне и здесь, Родион Мефодиевич, не дует, я и здесь вот дамой не обижен, для чего беспокойство?
Но все же и ботинки обул, и кителишко сменил, и бороденку расчесал, и эдак, заложив ладонь за борт кителя над средней пуговицей, слегка вскинув голову, — немного петухом, несколько более Бонапартом — вошел за сыном, который на пороге перепустил отца вперед, в шумную столовую, где никто не понимал, почему это не состоялся первый тост.
— Вот батя мой, — от двери, густым голосом представил Степанов. — Прошу любить и жаловать, Мефодий Елисеевич, здешней губернии старожил и землепашец. Многих войн солдат, не один раз ранен и контужен, специальность военная — артиллерист, вернее — род войск.
Дед еще задержал первую рюмку — пошел вокруг стола, суя всем руку и приговаривая с поклоном свое извечное:
— Стяпанов, Стяпанов, Стяпанов…
Протянул он руку и Владимиру Афанасьевичу, но вдруг оторопел, тонко воскликнул:
— Володечка! Приехал! Ай, ядрит твою…
— Ну-ну, батя, — посмеиваясь, прервал отца адмирал, — ты лучше молчком, а то словарь у тебя замусоренный…
Золотухин не без удовольствия поздоровался со стариком: ему все больше и больше нравилась эта часть семьи Евгения Родионовича, — и продолжил беседу с Устименкой:
— Так я слушаю вас, Владимир Афанасьевич.
Устименко помолчал. То, что он мог сказать, выслушав Золотухина, нелегко выговаривалось. Когда единственный сын — да еще такой, каким он, видимо, был, судя по словам отца, — болен этой болезнью в двадцать три года, — каково предсказание?
— Онкология — дело для меня далекое, — произнес он, не торопясь и глядя в настороженные, темные, глубокие глаза Золотухина. — Да и военно-полевая хирургия, сами понимаете, Зиновий Семенович, несколько отвлекла наши кадры от этой трудной проблемы. Но был у меня учитель, замечательный доктор, имя которого, кажется, здесь сейчас и произносить нельзя…
— Это кто же? — быстро и вдруг хмуро спросил Золотухин.
— Постников Иван Дмитриевич, — как ни в чем не бывало продолжал Устименко. — Меня уже даже сейчас успели предупредить, но я не верю и верить не хочу. Так вот, Иван Дмитриевич — замечательнейший онколог — такими словами незадолго до войны выразился. «Конечно, — сказал, — ухо, горло, нос — это и гайморитики, и ангиночки, и аденоиды, и воспаление среднего уха, и даже чудеса с ликвидацией глухоты посредством удаления серной пробки, — совсем не обязательно онкология. Но я почему онкологию избрал? Потому, что насморк, например, лечат семь дней, но в семь дней насморк и без лечения излечивается. Так что, можно считать, насморк практически неизлечим. Что же касается до раковой болезни, то статистика моя, — говорил Постников, — если и не оптимистическая, то обнадеживающая, и могу я заявить ответственно — раковая болезнь излечима…»