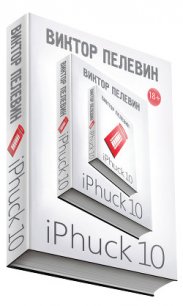Орден желтого флага - Пелевин Виктор Олегович (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Лишь когда моего Франклина вынули из коробки и собрали, я оценил подарок в полной мере. Это была изысканная и дорогая статуя — толстяка Бена отлили наполовину из бронзы, наполовину из золота с серебром. На его туфлях изгибались платиновые пряжки, а на камзоле вместо пуговиц мерцали драгоценные камни. Он стоял перед своим знаменитым изобретением — стеклянным органчиком colour revolution, собранным из множества прозрачных разноцветных цилиндров, вставленных друг в друга.
На серебряных пальцах Франклина помещались специальные мягкие нашлепки — водя ими по вращающимся цилиндрам, он заставлял стекло петь, извлекая из него тот томительный звук, что доводил когда-то до слез Павла, Франца-Антона и их друга Моцарта, написавшего для этого органчика несколько милых пьес.
Песня, которую Франклин споет своему владельцу первой, считается важной приметой — своего рода гаданием, напутствием от Неба. Мне выпало нечто странное и не поддающееся однозначной интерпретации.
— Земля! — пропел Франклин, грозно завывая своей стеклянной гармоникой. — Небо! Между землей и небом — война! И где бы ты ни был, что б ты ни делал, между землей и небом — война!
После этого он надолго умолк.
Я имею в виду, действительно надолго — я его просто выключил и больше не включал. Я с детства предпочитал любой музыке тишину — и полюбил своего Франклина не за песни, а за таинственный неземной свет, зарождавшийся в разноцветных цилиндрах его гармоники, когда на них падал вечерний луч солнца. Я даже установил рядом с ним особое зеркало, исключительно для усиления этого эффекта.
Вторым подарком был бюст Аниччи ди Чапао, присланный доброжелателями из Оленьего Парка (что это за заведение, я в те дни еще не знал).
Аничча выглядела странно — половина ее лица была юной, красивой и веселой, другая же распадалась, как бы осыпаясь песком… Заглянув в энциклопедию, я узнал, что слово «Аничча» было не только распространенным женским именем — оно означало «непостоянство» на языке пали. Видимо, эту скорбную недолговечность человеческой красоты и пытался отразить скульптор — чтобы зрителю стало не по себе.
Но портрет Аниччи мне нравился, в нем было отчаянное безрассудство юности — одна половинка лица улыбается распаду другой.
Аничча, как я прочел в энциклопедии, была племянницей известного солика и авантюриста Базилио ди Чапао, написавшего на склоне дней трактат о медитации «К Ниббане на одном дыхании». Книга прилагалась к бюсту.
Я положил трактат на полку в своем кабинете, а сверху поставил бюст — чтобы приподнять Аниччу чуть ближе к той самой Ниббане. Теперь она смотрела на Франклина, а Франклин — на нее.
Третий подарок прислал некий невозвращенец Менелай из моего собственного ордена — Желтого Флага. В духовной табели о рангах «невозвращенец» (или «зауряд-архат», но так говорят реже) — это чин духовного совершенства, непосредственно предшествующий архату. Различаются они погонами и еще какой-то ерундой, не особо даже понятной нормальному человеку.
Менелай прислал гравюру работы самого Павла. Она изображала, видимо, фантазию великого алхимика: над морем поднималась огромная башня — нечто вроде архитектурного гибрида Пизанской и Вавилонской. На ее вершине была корона с павловским крестом, а в море внизу извивался похожий на дракона змей, каких рисовали когда-то на картах.
Я повесил гравюру в чайном павильоне — в таком месте, где на нее не падали прямые лучи солнца. В прилагавшемся письме Менелай советовал мне сделать гравюру объектом ежедневных медитативных упражнений — следовало мысленно разбирать башню на части, перемешивать их, не теряя ни один элемент из виду, а потом собирать заново. Это, как он уверял, было стандартным упражнением для будущих Смотрителей уже не первый век.
Вскоре меня посетил монах-наставник из Железной Бездны, в обязанности которого входило следить за моей духовной формой. Он согласился с этим предписанием, заметив, что делать подобное упражнение следовало бы просто из благочестия.
Заодно он объяснил, что две застекленные латинские каллиграфии в моем кабинете не менее ценны, чем гравюра. Они тоже принадлежали кисти Павла. Это была парная надпись — четыре слова на одной стене:

И пять на другой:

Буквы были высокими и узкими, как бы протоготическими — и напоминали о надписях, сохранившихся на стенах Помпей.
Монах-наставник спросил, как я понимаю смысл этих изречений. Я гордился своими познаниями в латыни — и объяснил, что первая надпись была римским псевдосократизмом «я знаю, что ничего не знаю», а вторая — похожей по смыслу банальностью: «кто знает все, тот не знает ничего».
— Почему же Павел соединил эти две банальности в каллиграфию? — спросил монах.
Я пожал плечами. Мне это было непонятно — и не особо интересно.
Изобразив на лице сочувствие к чужому слабоумию, монах объяснил, что Павел и его соратники понимали эти две максимы иначе: «знаю, что я знаю ничто» и «познать все — это познать ничто». Что радикально трансформирует смысл обоих изречений: речь идет о постижении ноумена, непроявленного Абсолюта, где скрыты все потенции… Будущему Смотрителю, добавил он, такие вещи следует понимать сразу.
Когда я пересказал наш разговор Галилео, он рассмеялся.
— Обычные песни Железной Бездны. Идет от архата Адониса, есть у него такой пунктик. Я тебе тоже дам духовный совет: хочешь познать ничто — не заморачивайся ни на чем. Сделай себе на эту тему третью каллиграфию. Красными чернилами, чтоб не забыть.
Но красного цвета в моем новом жилище избегали (если не считать нескольких диванов и ширм) — возможно, из-за связанной с названием легенды. Зато повсюду зеленели остриженные шарами и пирамидами кусты. Старые деревья, причудливые аллеи, живые лабиринты… Зеленой казалась даже тень листвы.
Красный Дом состоял из павильонов, беседок и залов, соединенных переброшенными через ручьи мостиками. Если всему этому и был присущ какой-то архитектурный стиль, то он много лет назад скрылся под не известным мне вьющимся растением вроде плюща — его нежно-фиолетовые цветки были почти на всех стенах.
Речки и ручьи вокруг Красного Дома, увы, не были в полном смысле настоящими. Техники называли их «водной сеткой» — это была замкнутая сеть каналов разной ширины.
Углубившись в лес, можно было дойти до точки, где делался слышен шум турбин, создававших течение воды, а еще дальше стояли два высоких ветряка, вырабатывавших благодать для моторов. Ветряки были самые современные, из тех, где мантры на барабанах написаны в сто восемь слоев, поэтому благодати хватало не только для турбин, но и для освещения с обогревом. Сразу за ветряками начинался периметр охраны.
У Галилео, не верившего в династическое убийство, были два предположения о том, откуда взялось название «Красный Дом» на самом деле. По первому, оно было связано с древним китайским романом «Сон в Красном Тереме». По второму, Никколо Третий в пору своей юности высаживал здесь маковые и конопляные кусты.
Мак очень красив, когда цветет. В остальное время он бывает, гм, вреден. Особенно в том случае, когда дурная привычка появляется у будущего Смотрителя, чей доступ к опьяняющим веществам строго контролируется охраной и воспитателями.
Отчего-то мне было смешно представлять Смотрителя, выпаривающего собранное в саду ширево на спиртовке из химического набора «Познай Элементы» (из того, что Галилео знал даже такие подробности, следовало, что эта сплетня имела под собой основания). А после инъекции, видимо, и наступал «Сон в Красном Тереме» — так что обе версии дополняли друг друга.
Лучшим доказательством того, что это правда, было полное отсутствие мака на территории Красного Дома. Старшие обычно отказывают младшим в том, что позволяли себе сами, считая, что ошибки их молодости не следует повторять. Только они забывают самое главное — ошибки молодости вовсе не казались им ошибками, пока они были молоды. Тогда ошибалось все остальное человечество, а они-то как раз были правы. Именно в этом самообмане и состоит юность…