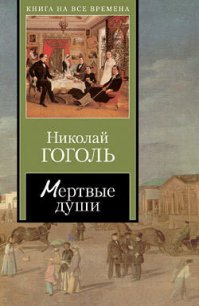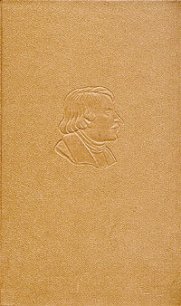Мертвые души. Том 2 - Гоголь Николай Васильевич (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений .TXT) 📗
— На всё нужно родиться счастливцем, Павел Иванович, — и рассказал всё, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыва.
Когда услышал Чичиков от слова до слова всё дело и увидел, что из-за одного слова «ты» произошла такая история, он оторопел. С минуту смотрел пристально в глаза Тентетникову, не зная, как решить об нём: дурак ли он круглый, или только придурковат, и наконец:
— Андрей Иванович! Помилуйте! — сказал он, взявши его за обе руки. — Какое ж оскорбление? Что ж тут оскорбительного в слове «ты»?
— В самом слове нет ничего оскорбительного, — сказал Тентетников, — но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбленье. «Ты» — это значит: «Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше; а приехала какая-нибудь княжна Юзякина — ты знай своё место, стой у порога». Вот что это значит! — Говоря это, смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами, в голосе его послышалось раздраженье оскорблённого чувства.
— Да хоть бы даже и в этом смысле, что ж тут такого? — сказал Чичиков.
— Как! Вы хотите, чтобы <я> продолжал бывать у него после такого поступка?
— Да какой же это поступок! Это даже не поступок, — сказал хладнокровно Чичиков.
— Как не поступок? — спросил в изумленье Тентетников.
— Это генеральская привычка, а не поступок: они всем говорят «ты». Да впрочем, почему ж этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку?..
— Это другое дело, — сказал Тентетников. — Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне «ты» и принял бы даже почтительно.
«Он совсем дурак, — подумал про себя Чичиков, — оборвышу позволить, а генералу не позволить!..»
— Хорошо, — сказал он вслух, — положим, он вас оскорбил, зато вы и поквитались с ним: он вам, и вы ему. Ссориться, оставляя личное, собственное, — это извините… Если уже избрана цель, уж нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюётся! Человек всегда плюётся: он так уж создан. Да вы не отыщете теперь во всём свете такого, который бы не плевался.
«Странный человек этот Чичиков!» — думал про себя в недоумении Тентетников, совершенно озадаченный такими словами.
«Какой, однако же, чудак этот Тентетников!» — думал между тем Чичиков.
— Андрей Иванович! Я буду с вами говорить, как брат с братом. Вы человек неопытный — позвольте мне обделать это дело. Я съезжу к его превосходительству — и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанью людей и света.
— Подличать перед ним я не намерен, — сказал, оскорбившись, Тентетников, — да и вас не могу на это уполномочить.
— Подличать я не способен, — сказал, оскорбившись, Чичиков. — Провиниться в другом проступке, по человечеству, могу, но в подлости — никогда… Извините, Андрей Иванович, за моё доброе желанье, я не ожидал, чтобы слова <мои> принимали вы в таком обидном смысле.
Всё это было сказано с чувством достоинства.
— Я виноват, простите! — сказал торопливо тронутый Тентетников, схватив его за обе руки. — Я не думал вас оскорбить. Клянусь, ваше доброе участие мне дорого! Но оставим этот разговор. Не будем больше никогда об этом говорить.
— В таком случае я так поеду к генералу.
— Зачем? — спросил Тентетников, смотря в недоумении ему в глаза.
— Засвидетельствовать почтенье.
«Странный человек этот Чичиков!» — подумал Тентетников.
«Странный человек этот Тентетников!» — подумал Чичиков.
— Я завтра же, Андрей Иванович, около десяти часов утра к нему и поеду. По-моему, чем скорей засвидетельствовать почтенье человеку, тем лучше. Так как бричка моя ещё не пришла в надлежащее состояние, то позвольте мне взять у вас коляску.
— Помилуйте, что за просьба? Вы полный господин: и экипаж и всё в вашем расположении.
После такого разговора они простились и разошлись спать, не без рассуждения о странностях друг друга.
Чудная, однако же, вещь! На другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочил он в коляску с лёгкостью почти военного человека, одетый в новый фрак белый галстук и жилет, и покатился свидетельствовать почтенье генералу, Тентетников пришёл в такое волненье духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельно-беспокойный. Возмущенье нервическое обуяло вдруг всеми чувствами доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился он на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу; то хотел мыслить — безуспешное хотенье! — мысль не лезла к нему в голову; то старался ни о чём не мыслить, — безуспешное старанье! — отрывки чего-то, похожего на мысли, концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду наклёвывались к нему в голову. «Странное состоянье!» — сказал он и придвинулся к окну — глядеть на дорогу, прорезавшую дуброву, в конце которой ещё курилась не успевшая улечься пыль. Но, оставив Тентетникова, последуем за Чичиковым.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Добрые кони в полчаса с небольшим пронесли Чичикова чрез десятивёрстное пространство: сначала дубровою, потом хлебами, начинавшимися зеленеть посреди свежей орани, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаленья, потом широкою аллею лип, едва начинавших развиваться, внесли его в самую середину деревни. Тут аллея лип своротила направо и, превратясь в улицу овальных тополей, огороженных снизу плетёными коробками, упёрлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво богатый резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь коринфских колонн. Повсюду несло масляной краской, всё обновлявшей и ничему не дававшей состареться. Двор чистотой подобен был паркету. С почтеньем соскочил Чичиков, приказал о себе доложить генералу и был введён к нему прямо в кабинет. Генерал поразил его величественной наружностью. Он был в атласном стёганом халате великолепного пурпура. Открытый взгляд, лицо мужественное, усы и большие бакенбарды с проседью, стрижка на затылке низкая, под гребёнку, шея сзади толстая, называемая в три этажа, или в три складки, с трещиной поперёк; словом — это был один из тех картинных генералов, которыми так богат был знаменитый двенадцатый год. Генерал Бетрищев, как и многие из нас, заключал в себе при куче достоинств и кучу недостатков. То и другое, как водится в русском человеке, было набросано в него в каком-то картинном беспорядке. В решительные минуты — великодушье, храбрость, безграничная щедрость, ум во всём, — и, в примесь к этому, капризы, честолюбие, самолюбие и те мелкие личности, без которых не обходится ни один русский, когда он сидит без дела. Он не любил всех, которые ушли вперёд его по службе, и выражался о них едко, в колких эпиграммах. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом и способностями и который, однако же, обогнал его и был уже генерал-губернатором двух губерний, и, как нарочно, тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, порочил всякое расположенье и видел во всех мерах и действиях его верх неразумия. В нём было все как-то странно, начиная с просвещения, которого он был поборник и ревнитель: любил блеснуть и любил также знать, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Словом, он любил немного похвастать умом. Воспитанный полуиностранным воспитаньем, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. И не мудрено, что с такой неровностью в характере и такими крупными яркими противуположностями он должен был неминуемо встретить множество неприятностей по службе, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всём какую-то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чём-либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную величавую осанку. В сертуке ли, во фраке ли, в халате — он был всё тот же. От голоса до малейшего телодвиженья в нём всё было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах если не уважение, то по крайней мере робость.