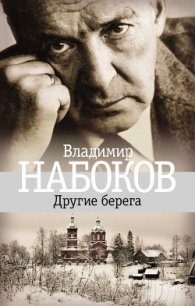Прибой и берега - Юнсон Эйвинд (электронные книги бесплатно .TXT) 📗
С наигранной суровостью он сдвинул густые черные брови, побренчал шейной цепочкой, которой украсил себя в этот день, лицо его смягчилось.
— Ладно, ладно. А теперь ступай. Может, я еще как-нибудь позову тебя. Может, попозже, к вечеру, очень может быть. Эвримах пришел?
— Пришел, — сказала она.
— Так-так, — сказал сын Эвпейта, выдающийся политик местного значения. — А про Телемаха ты ничего не слышала, Меланфо? Он не собирается дать деру?
Она просияла, она вступала в Политическую игру, она была в ней его помощницей.
— Главный козопас кое-что узнал, — сказала она с политической таинственностью. Она не сказала «мой брат» или «Меланфий, сын Долиона».
— Так-так, — заметил Антиной. — Что же он узнал?
— Телемах вынашивает черные замыслы, — высокопарно начала она. — Он…
— Ладно, ладно, — нетерпеливо оборвал ее Главарь женихов.
— Антиной… — сказала она.
— Что еще?
— Ты любишь меня — ну хоть чуточку?
Она стала солнечным лучом, маленькой, нежной женской тенью на земле, его лапушкой и уже хотела коснуться его своими прекрасными женскими руками, но он отпрянул и торопливо покосился вверх на окно Супруги, которая, возможно, была уже Вдовой, а вскоре могла стать и Бездетной.
— Ясное дело, крошка, — сказал он, — само собой. Если наведаешься к брату, дай ему знать, что я хочу его видеть.
Он был с ног до головы только политик, которому некогда, который еще до вечера намерен сформировать кабинет, но еще не уточнил окончательного списка министров.
Дочь Долиона проводила его взглядом до самого мегарона. Потом вышла в наружный двор, он был пуст; в углу ее вырвало.
Глава третья. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Они шли вверх навстречу мгле, а внизу у подножья гор узкий мыс и маленький остров черными тенями выделялись на серой ночной воде. На островке горел огонь, но пожаром он не грозил — то был большой бивачный костер, уже догоравший. Отблески его плясали на кромке прибоя, прыгали через гребни волн, змейками вползали на берег. На севере, по ту сторону пролива, тоже горели огни. Света в ее доме отсюда не было видно.
Они молчали уже довольно долго. Легконогий и Ненадежный держался на несколько шагов сзади. Он продолжал насвистывать, похожий на торжествующего укротителя.
Старший из двоих — старший с виду — пытался теперь с помощью тактики ускользания, которая была звеном в стратегии забвения, призвав на помощь остатки былого хитроумия, отрешиться от того, что на него надвигалось. Он пытался это сделать, уйдя с головой в осязаемую реальность нынешней ночи: думал о змеях, о колючих кустах, которые обдирают ноги, о камнях, которые могут скатиться с вышины, о которые можно споткнуться. И это ему удавалось. Он знал: если ты хочешь что-нибудь вспомнить, надо вернуться вспять, углубиться в джунгли воспоминаний, в трясину памяти и двигаться мелкими-мелкими шажками — тогда ты придешь к цели и сможешь там удержаться. А если ты хочешь что-нибудь забыть, ты должен ускользнуть, скользнуть вперед так осторожно, чтобы даже настоящее не пристало к твоей одежде, скользнуть в будущее такими легкими шагами, чтобы память не услышала — да-да, просто-напросто перехитрить память. Так он думал, но именно потому производил громкий шум — мы имеем в виду шум внутренний — и память услышала и увязалась за ним. И все же он считал, что ему повезло: он не умер на месте от боли, которую причинил ему мощный толчок всколыхнувшейся в груди тоски, и не пустился наутек в смертельном страхе. Голова его оставалась ясной, но способность рассуждать была ограничена как раз на столько, сколько необходимо. Кусты доходили им до колен, шли они по тропинке, протоптанной овцами. Умные ноги сами ступали: куда нужно. За семь лет они привыкли.
Он надеялся. Надеялся отчасти на то, что в пастушьей хижине никого не окажется, и они смогут поговорить без помех, а отчасти на то, что в ней сидят пастухи, мелют всякий вздор или храпят, и, стало быть, продолжить разговор не удастся. Собственно говоря, надо было бы, остановившись возле двери, привалиться к стене, как бы в знак прощания со случайным прохожим, который оказался любопытным и болтливым и его хочешь выпроводить. Тогда можно было бы сказать: «Уже поздно, сударь, стемнело, становится прохладно, мне пора спать. К сожалению, мне надо быть на пирушке, я обещал принять участие в празднестве. Сами понимаете, мне надо быть на пиру, его в известном смысле задали в мою честь; к сожалению, мне надо прилечь, на меня постоянно нападает неодолимая сонливость. Очень сожалею, но ничего не поделаешь. Спокойной ночи, сударь, очень приятно, буду очень рад как-нибудь встретиться, посидеть за чашей вина, потолковать об общих знакомых, о старых воспоминаниях…»
Змея!
— Вы испугались? — спросил голос за его спиной.
— Это была не змея, — вырвалось у него. — Это корень. А может, ящерица. Змеи по ночам спят.
— Противная штука эти скользкие корни и ящерицы, — сказал Любопытный и Лукавый, но в голосе его ничто не подтверждало высказанного отвращения.
— Весьма противные, — тем же светским тоном подтвердил он.
— Далеко еще? — спросил Вестник.
Он мог бы ответить: да, очень далеко, страшно далеко, так далеко, что обыкновенный человек, Антропос, каким он был в настоящую минуту, не мог и надеяться когда-нибудь достигнуть цели. Но ответ его мог быть и другим: «Слишком близко, стоит сделать шаг — и ты уже там, потоки и вихри самой жизни затянут тебя туда». Но он еще сохранил остатки хитроумия, простого искусства самосохранения, помогающего вести смертоносный или, наоборот, излишне животворный разговор. Вот почему ответ его прозвучал вполне убедительно и не мог быть оспорен, хотя содержание его было совершенно бессодержательным:
— Все зависит от того, как на это посмотреть и насколько ты в форме.
И опять ему удалось унестись мыслью почти прямо вперед. Почти — слово совершенно точное, оно означает, что в какой-то степени мысли его забирали вправо, на юго-восток или на восток, к царству Миноса [18], к обширному, неприступному острову в Эгейском море — Криту с его Кносом и Фестом, на землю которого он однажды, когда еще существовало время, ступил. Язык обежал перекошенный овал губ, пришло ощущение времени — теперь он точно помнил, когда потерял три или четыре зуба, как Обнимающий Землю Посейдон — олух этакий! — выбил их у него из челюсти.
— Вы, наверно, скучали, живя здесь? — спросил Лукавый отвратительно лицемерным голосом.
— Не знаю, что и сказать, — ответил он с принужденной вежливостью. — Легко ли вы добрались до меня? Как прошло ваше путешествие? Был ли ветер попутным и море спокойным, Высокочтимый?
— Все было отменно, господин Адмирал.
Оба готовились к важному разговору, с двух сторон подступали к решительному объяснению.
— Едва ли вам было здесь хорошо, господин Адмирал, — сказал Лукавый, сделав еще несколько шагов и снова употребляя титул, который должен был приблизить его к теме разговора. — Вы ведь давно скитаетесь по свету и, верно, думали о том, что вас ожидают дома вот уже… вот уже двадцать лет.
— Хорошо было или плохо, значения не имеет, — ответил другой. — Вот хижина.
— Она ведь, конечно, ни за что не захочет вас отпустить? — настаивал Любопытный тоном деловой заинтересованности, насквозь лицемерным.
— Едва ли имеет значение, захочет она или нет, — ответил другой, не отвечая на вопрос.
Хижина была сложена из хвороста и дерна, темная, пустая. Смешанный запах коз и овец, запах взбудораженных осенью козлов и баранов, запах кислого молока и мочи ударил им в нос, когда, пригнувшись, они нырнули в черный дверной проем. Выпрямиться во весь рост внутри было невозможно. Зашуршала трава и сухие ветки, задетые остроконечной шапочкой. Вытянув руку, Вестнику потрогал жерди, косо спускавшиеся вниз со всех сторон. На голову ему посыпалась земля и сухие листья.
— Присядьте, — сказал старший.
18
Минос — сын Зевса и Европы, царь Крита, где Дедал выстроил для него лабиринт; вместе с братом Рада-манфом был судьей в подземном царстве, где его видел Одиссей («Одиссея», XI, 568-570)