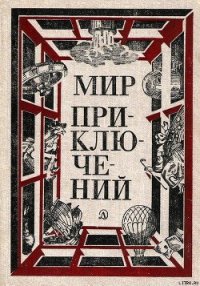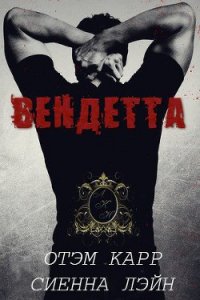Некто Финкельмайер - Розинер Феликс Яковлевич (читать книги онлайн бесплатно полностью без .txt) 📗
Да, так, значит, — память… К концу школы я одумался наконец. Стоило мне взглянуть, каким способом делается задачка, как все ей подобные я мог решать без запинки. О формулах и говорить нечего: их я знал назубок. Ну, а предметы, где главное — болтовня из учебника, все эти истории, географии, литература, — тут я шпарил с пулеметной скоростью. Странная вещь: тогда, в юности, говорил я совсем неправильно, черкизовский наш жаргон, еврейские интонации лезли из меня то и дело, да и сейчас, ты, наверное, замечаешь, — моя речь не похожа на цицероновскую. А вот писал я грамотно всегда. Грязь у меня в тетрадях, почерк дикий, но ошибок не было. В общем, со школьными сочинениями я тоже справлялся. Короче говоря, год-другой поднатужился, гляжу — четверки, пятерки пошли, учителя пожимают плечами. И вот я как-то узнаю, что на педсовете директор сказал: «Финкельмайер идет на медаль…» Тут как будто мне шпоры в бок: есть медаль — считай, что в институт уже принят! Последнее полугодие занимаюсь, как зверь, экзамен за экзаменом сдаю — один письменный, второй, устные начинаю… «Молодец, Финкельмайер, по письменным предварительно выставим тебе пятерки…»
Сдал и устные, последний спихнул, — мать в коридоре плачет, целует меня при всех: «Спасибо, Арошенька, мальчик!..» Обнимает, на цыпочки привстает, дотянуться до этой шеи не может, а я подгибаюсь навстречу, коленками о ноги ее стучу и тоже реву. Шутка ли — золотую медаль заработал!
День прошел, я отсыпался, помню, лежал в кровати, —Фимка дверь потихоньку открывает, пальцем меня выманивает, чтобы мать не слыхала. Вышел на лестницу: «Какого ты?..» А Фимка: «Дурак, дуй скорей в школу!»
Я дунул. И что же? Районо мои пятерки по письменным не утвердило.
Оказалось на школу пять медалистов, из них нас, евреев, трое. Директора вызвали: «Что же это, Сидор Николаевич? Золотая медаль только у Громова, Безуглов еле-еле на серебряную тянет, а еще три золотых у Штерна, Певзнера и этого… как там?.. Финкельмайера?»
Надо сказать, что евреев у нас было чуть не полкласса. Но считай — не считай, факт налицо. «Мы столько пропустить не сможем, одного снимаем. Предлагайте, кого». Директор Сидор Николаевич развел руками, полистал наши работы — мои неаккуратные, грязные, почерк плохой. Подумал он, подумал, вспомнил, что пятерки у меня в четвертях не всегда бывали; что вообще-то я за ум взялся только-только; что отец у меня сидит, и в районо это знают; а Штерн и Певзнер — круглые отличники все десять лет, и они-то медали свои и умом, и горбом, и задницей — всем заслужили. «Снимайте Финкельмайера». Мне и влепили четверки — и по сочинению, и по математике письменной.
Не получил я ни золотой, ни серебряной. А что делать? Скандаль — не скандаль, толку не добиться, это было понятно. У матери обострилась гипертония. А мне — что? — мне, конечно, обидно, но скоро я плюнул и переживать не стал. У меня обычно так и бывает: если сам себе навредил, дурака свалял, то терзаюсь и мучаюсь, казню себя, ночами не сплю. Очень, знаешь ли, нравится мне читать по ночам монологи, обращенные к своему разуму, к здравому смыслу. Я повторяю, как заклинание, внушаю себе, что надо быть практичным, активно жить, строить свою судьбу, бороться с обстоятельствами — как это? — быть выше обстоятельств, во! Тут уж я Цицерон, и Цицерону, видишь ли, не подобает произносить речь в лежачем положении, и вот я среди ночи встаю с постели и начинаю ходить из угла в угол, что-то там бормочу, жестикулирую. Но когда навредит мне кто-то другой — я умываю руки. Зачем переживать зря? Разве я виноват, что кто-то оказался сволочью? Едва ли и сама сволочь виновата в том, что она сволочь, а не ангел с крылышками. Так при чем тут я? Я сам себе доставляю столько цоpec, что если переживать из-за тех цорес, которые сыплют на меня, другие, — то и свихнуться недолго. Нервы требуют отдыха: в конце-то концов, когда-то нужно и выспаться, нельзя же каждую ночь ворочаться под одеялом, вскакивать и бормотать монологи?
Так что же? Взял я свой аттестат с двумя четверками и понес его в МВТУ. В приемной комиссии на меня смотрели долго и выразительно. С сожалением смотрели, чтобы я сразу все понял и ушел. Но я не понял. Я и до сих пор не все понял, а ведь тогда мне было только восемнадцать. Я сказал: «Я хочу подать заявление. Дайте анкету». И мне дали анкету. Помнишь, какие были анкеты? Нынешний листок по учету кадров в сравнении с той анкетой — жалкий комикс рядом с «Войной и миром». Там было вопросов шестьдесят или восемьдесят, и многие из них еще делились на отдельные вопросики, подвопросики, клеточки и строчки. Нужно было перечислить, например, всю семью жены от первого брака, если ты был разведен, включая ее родителей, братьев и сестер, написать девичьи фамилии обеих своих бабушек, не говоря уж о девичьих фамилиях матери и ее сестер. Главная же беда заключалась в том, что ни на один вопрос ты не должен был отвечать «не знаю». В каждой графе из десятка, а то и из двух, относящихся к твоим женам и родственникам их, следовало писать «холост». С этим я кое-как справился. Когда же дошло до родственников, находившихся в оккупации, я окончательно стал в тупик. В Минске, в Бобруйске, в Каунасе погибло множество моих дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер. Это я знал. Но вот все ли погибли? А вдруг кто-то и спасся? В таком случае получалось, что немцы, не добившие моих родственников, создали мне тем самым препятствие на пути поступления в вуз. Ну, а те, что погибли? Ведь вопрос-то ставился так: «Находились ли вы или ваши родственники на оккупированной территории? Перечислите, кто именно, укажите степень родства». То есть следовало написать, что «В оккупации находились: Финкельмайер Л. Х. — дядя (то есть дядя Лазарь, которого я никогда в жизни не видел и которого убили в Бобруйске); Финкельмайер С. А. — тетя (то есть его жена, убитая вместе с ним)» — и так далее, человек двадцать… Так как не спрашивалось, погибли они или нет, а ничего лишнего писать не полагалось, выходило, что двадцать бесплотных теней, сбившись в кучу, бросали резкую черную тень на мою репутацию абитуриента…
Возникла проблема и с родственниками за границей. В восемнадцатом году кто-то куда-то бежал то ли от гайдамаков, то ли от белополяков: на восток, к большевикам, бежать было далеко и через линию фронта, а на запад — и близко и довольно просто. Так оказалось, что семья бабушкиного брата, — а кажется, и бабушкиной сестры тоже, — живет теперь где-то в Америке.
Короче говоря, веселенькая у меня получалась анкета. Я не хочу сказать, что кто-то очень умный сочинил ее вопросы с конкретным расчетом на меня и на таких, как я. Но, признаться, тогда у меня возникло чувство, что это именно так. Мне почудилось, что заполни я эту анкету, — и сразу окажусь голым перед теми холодноглазыми девицами, которые распоряжались делами приема, что на моем длинном костлявом теле станут видны нехорошие пятна, нарывы и волдыри каких-то скрытых мною болезней, и среди них —большая, огромная, кровоточащая язва — мой отец, осужденный за воровство.
Я взмок. «Можно дома заполнить?» — спросил я девицу. Она хмыкнула: «Можно. Какая разница?» — и равнодушно отвернулась. В этом равнодушии была и досада: дурак, ты не оценил той выразительности и того сожаления, с каким я смотрела на тебя, давая понять, что нечего лезть. Тем хуже, — сдавай экзамены, мучайся, проваливайся, трать силы… Мне-то что? — видишь, я отворачиваюсь равнодушно…
Дома, поразмыслив так и эдак, я решил: никаких родственников на оккупированной территории у меня не было. И за границей их тоже нет. Если кто захочет, пусть проверяет, а я знать ничего не знаю. Но об отце я написал правду. Не потому, что это и впрямь было легко проверить. Тут, сказал я себе, вранья быть не должно: в какую бы ловушку ни загоняла меня анкета, предавать отца я не стану. Для вас — тайная болезнь, а для меня — отец, я от него ничего иного, кроме добра,не имел…
Отнес я документы в приемную комиссию. До вступительных экзаменов оставалось больше месяца. За это время я хотел подзаработать немного деньжат — хоть на пару обуви и на брюки, а если удастся, то и на какой-нибудь дешевенький костюмчик: последние годы зимой и летом я ходил в одних и тех же стоптанных башмаках, была у меня и единственная пара брюк, которую мать уже не раз штопала в неких укромных местах — там, где раздваиваются штанины. Вместо пиджака я носил рыжую лыжную куртку на молнии, с огромными накладными карманами спереди. Говорили даже, что куртка мне идет: широкая, как балахон, она пузырилась по бокам и на спине, и поэтому я в ней вроде бы выглядел не чересчур худым…