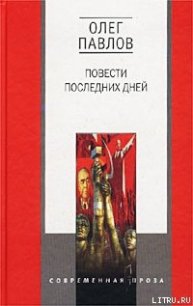Карагандинские девятины - Павлов Олег Олегович (электронная книга txt) 📗
Гражданин настырно длил свое чуждое стояние в служебном помещении и притом возмущенно глядел на Институтова, будто требовал, чтобы тот сам немедленно покинул кабинет. Начмед вышел из себя и закричал. «Все, я устал вам повторять, увидите его в своей распрекрасной столице!.. Не здесь и не сейчас, все, точка! Напрасно приехали и напрасно мутите воду, дорогой товарищ! Сегодня он будет отправлен. Смотрин и переодеваний никаких тоже не будет, это у себя дома делайте что хотите. Вам положено сына встречать по месту жительства, а не шататься в пьяном виде по Караганде. Все мы когда-нибудь отчего-нибудь умрем. И я умру, и вы – вот увидите. А ведь я лично не плачусь, не устраиваю истерик. Поверьте, вы сейчас вредите своему сыну, как это только возможно. Вы его просто, извините, позорите. Вы чего дождаться хотите? В милицию, в вытрезвитель попасть?! Так, Холмогоров, зовите наряд… По-другому он не поймет…»
Мужчина молчаливо склонился головой, так что сделалась видной лысина его шляпы, потом неожиданно-резким властным движением, поднял голову, взглянув с неприязнью уже на Алешу, но ничего так и не ответил. Бездушно-просто шатнулся, будто пихнули в плечо, вышел прочь и побрел в гулком пустом коридоре лазарета к выходу.
«Тоже мне, тень отца Гамлета! – фыркнул начмед – А еще в шляпе… – Потом энергично обернулся к Алеше и произнес, кивая на грязную посуду в его руках: – Ну, голубчик, это на сегодня оставь, есть работа поважнее. Поедешь со мной».
Алеша ничего не отвечал и не двигался с места. Институтов, как это уже бывало, повторил обычные свои слова: «Голубчик… э-э-э… дело в том, что оно в другом, то есть не в том… Да! Твое дело еще обождет, обождет, а сейчас – ну, просто неотложное есть дело. Дело жизни и смерти. Голубчик, сегодня не смогу, даже если бы хотел. Денька через три постараюсь, выкрою время – и займусь твоим зубом. Нет! И прекратим этот разговор! Надо еще поработать. Надо, надо еще – собрать все силы в кулак, поднатужиться, поднапрячься, ухнуть. Ну, если что, сам знаешь, у меня кто не работает, тот не пьет шампанское. Неволить не буду, никаких преград. Как говорится, скатертью дорога…» На этих словах Холмогоров вдруг как и было ему сказано – развернулся, пошагал… Начмед спохватился – и кинулся вдогонку за Алешей. «Это было шуткой! Беру свои слова обратно! – на лету покрикивал Институтов, прыгая мячиком за его плечом – Мое обещание остается в силе! Завтра же у вас будет вечный зуб!»
Ему удалось наконец опередить и удержать Холмогорова, но тот глухо молчал и глядел поверх скачущей головы начмеда в какую-то даль. Институтов пытался нащупать, попасть, заронить – и верещал: «Решено! Зуб железный, хромированный сплавом титана, за один день, немедленно, вечный, гарантия сто лет! Ну, голубчик, в конце концов я прошу о помощи… Что же я скажу товарищу Абдуллаеву? Помогите, спасите в эту трудную минуту мое честное имя! Ну дайте же сдержать слово!»
Начмед надрывался, только изображая немощного, но цеплялся за Алешку всерьез, зубодерской своей хваткой. Он был почему-то нужен ему как никогда. Алеша не мог бы дать утонуть на своих глазах даже кошке. А уж слышать жалобные зовы начмеда про Абдулку было до слез невыносимо: «А что же скажет товарищ Абдуллаев?» – аукалось гулко в его душе, будто это сам отеческий Абдулка засел в ней для наблюдения да понукал теперь усомнившегося Алешу. И если б можно было ему что-то ответить, объяснить, а ведь выходило так, что Абдулка только и узнает, как сбежал неблагодарно от его подарка.
«Вы какую неделю обещаете…» – дрогнул Алеша. Начмед мигом бодренько подхватил: «Завтра же, завтра все будет сделано! Голубчик, ну что за глупость? Это говорит ваша обида. Надо уметь прощать. Мы все делаем общее дело. Дайте мне всего один день! Все давно готово с вашим зубом, осталось только поставить его на место. Сегодня вы поможете мне, а завтра уже поедете домой в лучшем виде. Вот, глядите, вы оскорбили меня, а я все готов простить и сам упрашиваю не совершать роковой ошибки. Я упрашиваю ваc, молодой человек, а мог бы не упрашивать! Да, да… Я трачу свой труд, свой личный материал для протезирования, а вы нахально заявляете, что я что-то с кого-то имею. Если вы намекаете на мясо, которое меня заставил принять в подарок Абдулла Ибрагимыч, то могу поставить вас в известность, что и здесь я ничего не имел. Поимел бы я, если б ничего не сделал. А я сделал осмотр, сделал удаление, сделал всю подготовку протеза и готов завтра же покончить с вашим зубом. И вот ради прелестного зуба, который прослужит вам сто лет, и ради Абдуллы Ибрагимыча, я, человек с образованием выше среднего, должен унижаться и упрашивать молодого неблагодарного нахала потерпеть всего-то один день!»
Слово за слово – и так все неотвратимо вернулось на круги своя… Полегчало, стоило вновь покориться. И успокоился, и обрел сам себя. И вышло не так, что его принудил, покорил этот человек. Это он сам себя принудил и покорился собственной воле, меняя весь свой пыл собраться в дорогу сей же час на обещание, что будет отпущен завтра.Чтобы ехать с начмедом исполнять какую-то работу, которую тот для него напоследок подыскал, Холмогоров облачился в парадную форму – другой одежки у него, демобилизованного, уже не было – да залез в родимую свою шинель, что за годы службы пожухла до песочной рыжины… Отслужившая свой срок стойкости шинель имела наружность затрапезную, отчего и Алеша снова обрел в ней затрапезный вид, но кто глядел на него со стороны могли б удивиться серьезности его лица и тому, какое воском застыло в нем нешуточное достоинство. Ощущая под eе линялой грубой шкурой холодящую с непривычки оболочку парадного кителя, Холмогоров и приосанился поневоле, да вот не понимал, что видна для всех только его зачуханная рыжая шинель. А кругом в приемном покое лазарета кишмя кишела солдатня, на что-то обреченная – кто с фурункулом, кто со свежей раной, кто с болью. Все это скопище людей как с повинной ожидало появления начмеда – и Алеша тоже ожидал. Он ощущал, что всех, кто скопился в приемном покое, должно было поглотить с минуты на минуту разочарование, если не отчаяние. Начмед уезжал в неизвестном направлении по своим делам, обрекая их тоже терпеть до завтра.
Что дорога предстояла долгая – это единственно и знал Алеша с его же слов. Институтов сообщил об этом с той доверительной важностью, какая, наверное, должна была заменить работнику пропитание. Но куда ехать, на какое время, что исполнять – оставляло Алешку равнодушным. Что бы ни ждало, прикован он был к завтрашнему дню, думая беспробудно о своем, воображая все упоительней, каким новым и ни на кого не похожим человеком станет завтра. Для всех окажется он завтра незнакомцем. Даже сам себя не будет завтра узнавать. Холмогорову казалось, что это суждено всем людям на земле: всегда терпеть до завтра. Что иначе и не приходит настоящее, если не терпеть. Что это даже правильно, справедливо, ведь только день завтрашний может стать днем рождения, а не сегодняшний, потому как нужно дать время не избавиться от чего-то, а чему-то новому в себе родиться.
И во всех несчастных, что томились со своими болезнями в приемном покое лазарета, ожидая, как и он, Институтова, вдруг померещилась Алеше такая же храбрая вселенская муть, что и в какой-нибудь взбаламученной воде. Он обрадовался, да чуть и не вымолвил на радостях вслух: все случится завтра, завтра мы не узнаем самих себя!
Институтов заявился. Мельком, суетливо оглядел скопившихся людей, но не ухватил глазом ничего такого, что внушило бы тревогу, и воскликнул: «Сегодня, голубчики, я боль, а не врач!» За их жизни он уже не боялся, после чего как медицинский работник обходительно выпроводил страждущих за порог лазарета, до завтра. Снова огляделся, чисто ли на его пути. И дал Алеше полный нетерпения знак.
Подле лазарета паслась похожая на коровенку машина с вздутыми боками, жующая потихоньку бензин.
Это была та самая санитарная машина, единственная в полку, на которой в прошлом Холмогоров отправлялся в путь, еще не зная, куда везут его и что с ним будет. Другой – разительно непохожий на того шалопутного развеселого шоферюгу, что когда-то увозил его из полка – осанисто восседал за баранкой. Алеша поздоровался, но парень не отозвался на приветствие, даже не повернул головы.