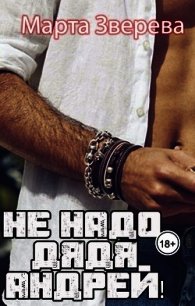Батискаф - Иванов Андрей Вячеславович (читать книги без сокращений .txt, .fb2) 📗
Тогда я и сформулировал приблизительно следующее: стремиться к лучшему (в мечтательном преломлении) совершенно бессмысленно. Сводишь концы с концами и ладно. Вообще, зачем к чему-то стремиться? Это же глупость! Гора не придет к Магомету, так пусть Магомет и идет в горы! Я лежу на картонке и курю самокрутки, мне ничего не надо больше… Потому что любое «больше», любое «лучше» рано или поздно оказывается чем-то банальным, еще более скучным, нежели то, от чего бежишь, перед тем, как прыгать! Запросто может оказаться, что, прыгнув, ты повиснешь в пустоте, и пока так висишь, все тебя тихой сапой обставят!
* * *
Я объявил дяде, что остаюсь в Дании. Я не еду в Норвегию.
Несколько дней мы не разговаривали.
* * *
Копенгаген… Длинные проспекты, пруды, каналы, холодные стекла, пустоты, пустоты… Было много незнакомых своим выражением лиц, странных построек, новых запахов… Шаги на лестнице звучали иначе. Кофе пах как-то не так. Музыка текла подневольно, словно прорываясь сквозь тугую пелену. Дождь был другим. Небо было низким. Вода в каналах тянулась медленно и мучительно влекла за собой: хотелось идти и идти вдоль канала, идти…
Копенгаген существовал вне моего знания о нем. Я это отчетливо ощущал. Он существовал не для таких людей, как я или мой дядя. Мы тут были случайные персонажи, мы были точно не к месту и не у дел. Это было совершенно очевидно. Копенгаген своей строгостью и завуалированной помпезностью как бы старался исподволь дать это понять, ощутить, чтобы я осознал это и сам убрался поскорее. Этим мне Копен напоминал Питер. Безразличием, холодом, серостью, погодой, водой. Золотая спираль церкви Нашего Спасителя напоминала Адмиралтейскую стрелу. Здания биржи с парламентом тоже что-то напоминали. Кругом были позеленевшие крыши и скульптуры. Какие-то короли на конях, какие-то драконы со спиралевидными хвостами. Каналы. Разводные мосты. Я всегда мучительно переносил поездки в Питер, куда каждое лето меня тащила с собой мать, чтобы провести по музеям, церквям и паркам, чтобы я «пропитался культурой». Ей надо было меня «приобщать к истории». Таким вот смешным образом. Ей непременно надо было пройтись по набережным. Сфотографироваться возле какой-нибудь толстенной цепи или ростральной колонны. У нас дома было так много бестолковых фотографий, и все черно-белые! Сделанные дядиной «Чайкой II». Теперь мне казалось, что случилось самое жуткое: я попал в серию таких черно-белых снимков — то у колонны, то у цепи. Дядя наделал их в избытке, я был в самой различной одежде, при самом разном освещении, чтобы потом слать их матери, в течение года, а то и двух. Смотря как пойдет… Он запасся: ведь это ему за мной разгребать (он смирился с тем, что я никуда не еду, только затем чтобы поскорее сплавить меня в датские лагеря).
— Тебя забросят куда-нибудь на Юлланд, и ты не станешь делать фотографий и слать их мне. Матери ничего слать нельзя. Забудь ее адрес вообще. Тверди легенду! Забудь слово Прибалтика!
Он был прав; насчет писем не ошибался. Я не стал бы писать, и не слал. (Он спал и видел, как я гнию посреди юлландской пустоши!)
Он заставлял меня часами писать письма домой. На много месяцев вперед. Под его диктовку. Чтобы он потом посылал, вложив их в свои письма.
— Конспирация должна соблюдаться. Такое забудут не скоро. Садись, пиши письма!
— Сколько?
— Не меньше двадцати…
— Двадцать писем! Это же целый роман!
— Давай, давай…
Я садился и писал. Письма, которые он будет отправлять, вкладывая фотокарточки. Чтобы держать мать в тонусе. Он думал о сестре. Его заботило ее психическое здоровье. Ведь я его так подорвал. И доверие… О да, маленький негодник довел свою мать… ни строчки не написал за две недели! Валяется на полу. Курит. Не желает ехать в Норвегию. Все делает в пику. Глупец не чует, чем пахнет.
— Пиши письма!
— Сейчас докурю…
— Кто знает, год или два… А может, три… Ну, все, вставай, садись за письма!
Дядя придумал мне новые приключения. Раз уж не Норвегия, то этап по кэмпам Дании, игра в бойскаута!
Дорогая мама, у меня все в порядке, ты знаешь, все как обычно, я живу в небольшом городке, и какая разница, главное, что живу, не болею, меняю носки и питаюсь рисом и тунцом, это довольно дешево, мне удается немного экономить на черный день…
Скрепя сердце, я пробирался сквозь кошмары тайком, воровато, не затворяя за собой двери, стыдливо опустив глаза, засунув руки в карманы, старался ни к чему лишний раз не прикасаться. Я понимал, что оказался тут чудом и вряд ли надолго. Боялся, что сон растворится, я открою глаза и увижу перед собой разводы зеленой краски на стене и почую вонючий шконарь под собой.
Ты знаешь, я должен из кожи вон лезть, чтобы зацепиться в этом городе, который еще ужасней, чем Питер, не понимаю, мама, зачем мы туда ездили, зачем ты меня туда возила, мне там так не нравилось, и все тетки, с твоей работы, они на меня смотрели так, я даже не знаю как, а в Копенгагене никто на тебя не смотрит, ты идешь по улице и никто не смотрит всем на тебя наплевать ты просто идешь и все никому до тебя нет дела а погода такая же дрянная если не хуже и все говорят так словно только что вышли от дантиста с набитым тампонами ртом но лучше это пусть лучше будет это мне все равно лучше так чем тампоны в твоем собственном рту или твоя печень в чьем-нибудь теле
Я часто бродил по Копену с закрытыми глазами… Находил прямую длинную аллею, закрывал глаза и шел, шел, шел… Открывал их плавно и, видя, что аллея не растаяла, улыбался. Все эти дни меня не покидал трепет в груди. Надо было чудо беречь. Надо было чудо использовать. И я дул в мехи воображения, вдувал гулкие ноты, творил мою симфонию… Пока она играла в голове, я был цел и я был с собою в ладу! Случись что, — думал я, — ну мало ли… сума, тюрьма и так далее… у меня с собой в душе хотя бы это будет… Копенгага…
Но иногда меня крепко допекали страхи, начинало лихорадить, слышались голоса, которые разрывали на части все мои партитуры, рвались струны, ломались подмостки, в панике толпа рвалась на сцену, языки пламени взбегали по шторам, балкон обрушивался, лестницы проваливались, черная гарь смыкалась над сердцем, я задыхался от ужаса.
Все время хотелось раскуриться. Но с этим никак не получалось. Всюду был он: легенда — письма — конспирация… Если он меня отпускал, я оказывался без денег и далеко от Христиании. Или он меня попросту запирал у себя в комнатке. Все было не так…
Из окна его студии я видел крыши, окна, в которых редко появлялись люди, и даже когда появлялись, интереса не вызывали, как статисты в дурацком кино; ты знаешь, мама, из моего окна я сейчас вижу улицу, я пишу положив лист на подоконник я смотрю как падают капли идет дождь за окном бар он похож на Leelo помнишь был такой бар в Доме Культуры я часто вспоминаю и не знаю почему все это особого значения не имеет как и бар у меня за окном вернее может быть все это имеет ровно столько же значения понимаешь я хочу сказать все тождественно решительно все и все очень скудно и сердцем и духом приходится восполнять эту скудость по-своему…
Я вытягивал из себя Копенгагу, чтобы подавить одиночество и те страхи, которые жались ко мне, как пиявки, выплывая из теней. Я заставлял свои ноги звучать, руками скреб стол или подбрасывал спичечный коробок, посвистывая в пустой студии, и прислушивался… настойчиво прислушивался к лифту, к тому, как кто-то шагает по коридору, звякнув ключами, открывает и затем закрывает дверь. Я укладывался на пол, накрывал глаза полотенцем, заматывал голову, как чалмой, чтоб ослепить себя, и, обострив таким насильственным образом слух, просачивался в Копенгагу, как нитка в игольное ушко… становился облачком… скользким угрем вился вокруг спицы… шершавым точилом лизал сталь… гонялся против ветра за брызгами насмешника-дождя… плакал над разбитой бутылкой… танцевал звонкой монеткой… вылетал шипящей струей из сифона! Мне нужна была музыка, нужен был потаенный край… потому что иначе было нельзя. Моя жизнь — та ее часть, что сопряжена с паспортными данными и исчисляется сменой сезонов — сократилась, сжалась, как джинсы после стирки, упаковалась, как бандероль, покрытая штампами, стала устрашающе простой, но при этом изнутри меня распирала, как пружина, моя симфония, моя Копенгага! Сам я под гнетом дядиных наставлений и своих собственных опасений уменьшился в росте, усох и продолжал сжиматься. Так боялся, что меня сцапают и выдворят, что даже поджимал пальцы ног в ботинках. У меня появилась совершенно дурацкая привычка ковырять большим ногтем заусенцы на пальцах. Не замечал, как раздирал до крови. Потом откусывал и жевал. В голове постоянно шла какая-то мышиная возня. Каждый раз, когда мы возвращались после прогулки, подходя ближе и ближе, я начинал потеть, пристально оглядывать всех прохожих, искать признаки засады. Все мне казалось странным и подозрительным. Мерещилось, что следят. Боялся даже думать, что происходит дома. Каждый звонок от матери меня приводил в ужас. По улицам я передвигался прыгающей походкой, поглядывая на все беглой дурацкой улыбочкой обреченного. Мне думалось, что меня вот-вот вырвут, грубыми щипцами, как сгнивший зуб, вырвут из этой теплой насиженной жизни и окунут лицом в рыхлую кровавую кашу земли. Чувствовал себя подвешенным в воздухе на длинной и очень ненадежной эластичной лиане, которая то натягивается, то сокращается, и в глазах колеблется и вздрагивает какой-то цветной волосок. Вспышки, зарницы угасающего сознания… Так тяжело становилось. Ноги не шли! Внутри перехватывало. То взлетишь, то нырнешь. А потом вдруг охватывала эйфория, хотелось скакать, нести немыслимый бред.