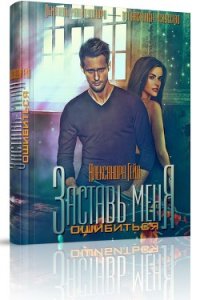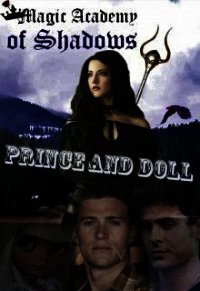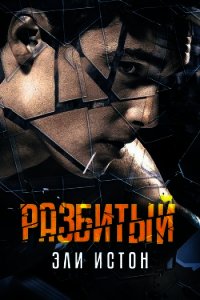Кто поедет в Трускавец - Ибрагимбеков Максуд Мамедович (книга жизни txt) 📗
Мы выпили еще по чашке кофе и рюмке коньяку под звуки песни, исполняемой незнакомым певцом. Я переписал ее недавно, точную дату этого события могут назвать почти все мои соседи по этажу и блоку, считавшие в первые дни звучания этой песни своим гражданским долгом немедленно позвонить в дверной звонок и с встревоженным видом спросить у меня, что происходит в квартире и не нуждаюсь ли я в их немедленной помощи и защите.
Это была выдающаяся мрачной первозданностью своей мелодия в сочетании с титанической по силе и бросающей в дрожь выразительностью тембра голоса, песня, оказывающая на человека ни с чем не сравнимое по своей мощности эмоциональное воздействие. Как будто в этом голосе воплотились в едином гармоническом сплаве вся сила и все умение Имы Сумак, Василия Алексеева, квартета скрипок и двух тамтамов. В наиболее спокойных, по сравнению с другими частями этой песни, можно сказать без преувеличения, почти жизнерадостных местах начинало вдруг казаться, что певец оплакивает какие-то, без сомнения хоть и печальные для каждого, но все-таки не самые ужасные события из истории и настоящего человечества; в эти минуты явственно представлялось, что он безмерно грустит по поводу безвременной кончины всех без исключения жертв кораблекрушений, не делая никакого различия в глубине своей печали для погибшего экипажа эллинской галеры и пассажиров «Титаника», или скорбит, вместе с тем сдержанно возмущаясь, по поводу необратимых последствий истребления африканской флоры и европейской фауны; в местах же, достигающих высшей точки оркестрового и вокального подъема, слушателя охватывало ощущение беспомощности и бессилия в связи с отсутствием всякой возможности помочь талантливому человеку, у которого какие-то злоумышленники живьем вырывают селезенку и желчный пузырь, одновременно требуя у него немедленного согласия на законный и фактический брак с вдовой Гиммлера.
Мы почтили последний аккорд совместным молчанием, а потом она посмотрела на часы и сказала, что ей пора уходить и что она очень давно, даже вспомнить нельзя, до того это была давно, не засиживалась так поздно в гостях. А сегодня это оказалось возможным, потому что с больной мамой осталась приехавшая на несколько дней ее проведать двоюродная сестра. Еще она сказала, что через неделю у нее начинается отпуск, она с матерью, у которой вдобавок к параличу еще больная печень, поедет в Трускавец, куда они выезжают ежегодно.
Я представил себе эту парализованную маманс, характер которой, наверное, под благотворным влиянием больной печени и постоянного лежания с каждым днем приобретал новые ценные качества, приближающие его к совершенству, длинные вечера в ее обществе в квартире, пахнущей лекарствами и болезнью, и подумал, что моей гостье не очень повезло в жизни.
Вслух же я выразил ей легкое сочувствие в самой необидной, ненавязчивой форме, сказав, что она молодчина, так как, без сомнения, это очень трудно – совмещать работу с уходом за больной матерью, самоотверженно отказываясь во имя этой высокой и гуманной цели, предполагаю, от многого, в том числе и от семейной жизни. Я старался говорить как можно сдержанней, но ее все равно что-то задело, она покраснела и ответила мне, что в любом случае о своем разводе ничуть не жалеет, потому что этот ее бывший муж не выдержал элементарного испытания жизнью, и ничего, кроме легкого презрения к нему и удивления по поводу того, как она могла его полюбить, она не испытывала.
Про себя я посочувствовал этому парню, благополучно для себя и своего потомства не выдержавшему «элементарное испытание жизнью», заключающееся в ежедневных содержательных беседах с парализованной, исходящей, наверное, желчью тещей, в развеселых ежегодных поездках-пикниках на лоно природы в Трускавец или еще в какой-нибудь такой же госпиталь, и подумал, естественно, также про себя, что интересно, как бы выглядела эта высокая самоотверженность в аналогичном случае с той незначительной разницей, если бы в роли страждущей героини выступала не теща, а свекровь.
Еще она сказала, что трудно было только первое время, с непривычки, а сейчас она привыкла, заработок позволяет ей нанимать на то время, что она на работе, сиделку-домработницу. Сказала, и в интонации ее мне послышался вызов, что, кроме матери, у нее никого нет, и она ее очень любит и будет делать все, что как-то скрасит ей и без того тяжелую жизнь.
Она посмотрела на меня, а я, видно, несколько перестарался, изображая на лице искреннее участие и сочувствие, уместные для человека, выслушивающего у себя дома грустную историю, рассказываемую прекрасной гостьей, и сказала, что, в общем, это совсем не страшно, что с ее стороны нехорошо обременять своими заботами меня, и, улыбнувшись, попросила на все ею сказанное не обращать внимания.
Все равно мне стало приятно, что ее беспокоит мое настроение, и стало еще приятнее, когда она заметила, что есть во мне нечто, что расположило ее, всегда сдержанную и даже скрытную, к откровенности, хотя если говорить начистоту, то вся эта история произвела на меня приблизительно такое же впечатление, какое производит антиалкогольная лекция на случайно прослушавшего ее пьющего интеллигента: вроде бы все логично и общественно правильно и вместе с тем в той же степени абсурдно и практически неприемлемо.
Я предложил ей посмотреть по телевизору румынские мультипликационные фильмы, которые должны были начаться через несколько минут, но она очень решительно отказалась и встала. Я с досадой понял, что удерживать ее бесполезно и так хорошо начавшийся вечер безнадежно пропал. Я шел за ней в переднюю, возлагая надежды только на Второй Приход. Она надела плащ и теперь стояла передо мной, произнося учтивые слова прощания и признательности за приятно проведенный вечер. Я же думал в это время, что она удивительно красива какой-то необычной, мягкой красотой лица и тела своей ненавязчивой женственностью, не бросающейся в глаза, но волнующей, ощутимой в каждом ее слове, каждом движении. Я подумал, что те усилия, которые мне придется приложить в оставшиеся до ее отъезда семь или восемь дней, стоят того, и еще я, между прочим, порадовался, вспомнив о счастливом совпадении, которое позволит мне заполнить предстоящие десять дней отдыха, любезно предоставленного мне Министерством здравоохранения, в высшей степени содержательно, под знаком приключения самого высокого уровня, связанного с очень красивой и очень желанной женщиной, приключения того типа, что оказывают самое благотворное влияние на всю нервную систему и оставляют в человеке после своего благополучного и своевременного окончания чувство уверенности в себе и силы.
Я спросил у нее насчет завтрашней встречи, о времени, удобном для нее, дав понять, что готов пожертвовать всеми своими делами и планами, если они назначены на тот час, который она назовет.
Она ответила, что завтра мы не увидимся.
Что и говорить, я предпочел бы услышать другой ответ, однако любой ответ является всего-навсего не чем иным, как одним из бесчисленных, постоянно меняющихся по сути своей ответов и вопросов, непрестанно и хаотически меняющихся вариантов, лишь в самом конце, в сумме своей, составляющих то гигантское сочетание с невыведенной формулой, именуемое человеческими взаимоотношениями.
Я сказал ей, что ни в коем случае не буду настаивать на том, чтобы мы встретились непременно завтра, что в моих глазах ценность этой встречи ничуть не уменьшится, если ее отложить на один или даже несколько дней, но стоит ли так расточительно тратить время, зная, что в нашем распоряжении остается всего лишь какая-то жалкая неделя перед отъездом в Трускавец.
По-моему, она неприметно улыбнулась при слове «нашем», впрочем, может быть, мне показалось, во всяком случае, когда я кончил, она была совершенно серьезна.
– Дело в том, – сказала она, – что мы никогда больше не встретимся.
Она посмотрела на меня, но я промолчал, ожидая продолжения, которое должно было последовать.
– Мы никогда не встретимся. Мне это не нужно, словом, я этого и не хочу. Поверь, дело совсем не в тебе… Просто мне все это ни к чему, неинтересно, понимаешь? Для меня этот жанр давно уже исчерпал свои возможности…