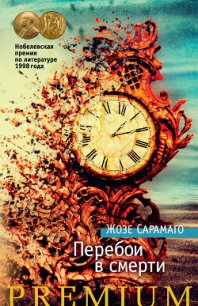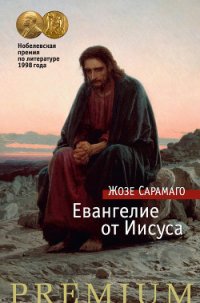Год смерти Рикардо Рейса - Сарамаго Жозе (читать бесплатно книги без сокращений TXT) 📗
Рикардо Рейс перечитывает уже известное ему — призыв ректора Саламанкского университета: Спасем западную цивилизацию! Я с вами, мужи Испании, пять тысяч песет из своего кармана на нужды армии генерала Франко, позорное предложение президенту Асанье покончить жизнь самоубийством, о святых женщинах на сегодняшний день он еще ничего сказать не успел, но можно и не дожидаться этого высказывания, а просто вспомнить, как простой португальский кинорежиссер поддержал мнение испанского ученого: по эту сторону Пиренеев все женщины — святые, все зло заключено в мужчинах, которые так хорошо о них думают. Рикардо Рейс неторопливо перелистывает страницы, задерживаясь взглядом на хронике, которая может быть здешней и чужестранной, относиться к нашему времени или к прошлому — ну, например, сообщения о крещениях и венчаниях, прибытиях и отъездах, плохо только, что светская жизнь имеется, а одного какого-то света нет, и если бы можно было выбирать для прочтения новости себе по вкусу, каждый из нас был бы Джоном Д. Рокфеллером. Он пробегает глазам строчные объявления: Сдается квартира, Сниму квартиру, с этим у него все благополучно, жилье имеется, а вот глядите-ка, сообщают нам, какого числа какого месяца выйдет из лиссабонского порта пароход «Хайленд Бригэйд» и возьмет курс на Пернамбуко, Рио-де-Жанейро, Сантос, о, неутомимый вестник, какие вести принес ты из Виго, кажется, будто вся Галисия встала на сторону генерала Франко, да и неудивительно, он ведь оттуда родом, а чувство — штука могущественная. И так вот въехал один мир в другой, и утерял читатель свою безмятежную созерцательность и, нетерпеливо перевернув страницу, натыкается на Ахиллесов щит, давненько он его не видал. Да, это то самое и уже познанное нами великолепие образов и речений, несравненное видение не признающего недоговоренностей мира, тот самый на миг остановившийся и выставивший себя на всеобщее обозрение калейдоскоп, и можно даже сосчитать морщины на челе Бога, явившегося к нам под именем Фрейре-Гравера: вот его портрет, вот неумолимый монокль, вот галстук, которым нам суждено быть удавленными, хотя врач и скажет, что умираем мы от болезни или — как в Испании — от пули, а ниже изображены его творения, о которых принято говорить, что они воспевают неизреченную мудрость Творца и упиваются ею, а Он не посадил на свою репутацию ни единого пятнышка и был увенчан тремя золотыми медалями, высшими отличиями, врученными ему другим, высшим божеством — оно не публикует свою рекламу в газете «Диарио де Нотисиас» а потому, быть может, и является истинным Богом. Если раньше эта реклама казалась Рикардо Рейсу подобием лабиринта, то теперь представляется замкнутым кругом, из которого нет и не может быть выхода, то есть, фактически — лабиринтом, а по форме — пустыней, где не проложено троп. Он пририсовывает Фрейре-Граверу остроконечную бородку, превращает монокль в очки, но даже путем таких ухищрений все равно не может добиться его сходства с тем доном Мигелем де Унамуно, который тоже безнадежно заплутал в некоем лабиринте, а выбрался из него, если верить недавно прозвучавшей речи, чуть ли не в смертный свой час, и в любом случае вызывает сильнейшие сомнения, что в эти последние слова вложил он всего себя, всю суть свою, и слабо верится, будто в промежутке между произнесением этих слов и переселением в лучший мир его превосходительство сеньор ректор вернулся к первоначальному услужливому сообщничеству, скрыл свою вспышку, утаил внезапный бунт. «Да» и «нет» Мигеля де Унамуно томят смятенную душу Рикардо Рейса, разделенную между тем, что известно ему про обыденные жизни — свою и Унамуно — связанные газетной заметкой, и невнятным, темным пророчеством того, кто, зная будущее, лишь чуточку приподнял покрывающую его завесу, и Рикардо Рейс, жалея, что не осмелился спросить у него, у португальского этого оратора, каковы же были те решающие слова, которые сказал дон Мигель генералу, и когда были они сказаны, понял вдруг — не осмелился потому, что ему было непреложно возвещено, что ко дню раскаяния его-то самого уже не будет на свете. Вам, сеньор доктор Рикардо Рейс, узнать этих слов не доведется, ничего не поделаешь, жизни на все хватить не может, вот и вашей не хватило. Зато может Рикардо Рейс заметить, что колесо судьбы уже двинулось, свершая оборот: генерал Милан д'Астрай, находившийся в Буэнос-Айресе, возвращается в Испанию через Рио-де-Жанейро, не слишком сильно, оказывается, отличаются пути, которыми движутся люди, пересекает Атлантику, пылая воинственным жаром, и через несколько дней сойдет в Лиссабоне на берег со сходен корабля «Альмансора», после чего направится в Севилью, а оттуда — в Тетуан, где заменит генерала Франко. Милан д'Астрай приближается к Саламанке и к Мигелю де Унамуно, скоро он крикнет: Да здравствует смерть! — а что потом? Тьма. Португальский оратор снова попросил слова, шевелятся его губы, освещенные черным солнцем грядущего, но слова не слышны, невозможно даже догадаться, о чем он говорит.
Рикардо Рейсу очень хочется обсудить все эти вопросы с Фернандо Пессоа, но Фернандо Пессоа не появляется. Время катится медленной липкой волной, тянется жидкой стекловидной массой, на поверхности которой, занимая глаза и отвлекая чувства, вспыхивают мириады искр, тогда как в глубине просвечивает огненно-красное беспокойное ядро, приводящее все это в движение. Такие вот дни чередуются с такими вот ночами, и великий зной то валится с неба, то поднимается с земли. Старики теперь выходят в скверик на Алто-да-Санта-Катарина лишь под вечер, им не под силу сносить раскаленное солнце, со всех сторон подступающее к скудной тени пальм, их утомленные жизнью глаза не выдерживают нестерпимого блеска реки, а удушливое марево непереносимо для изношенных легких. Лиссабон откручивает краны, откуда не льется ни единой струйки, и население его относится ныне к отряду куриных — бессильно поникли его крылья, жадно распялен клюв. В дремотной одури идут разговоры о том, что, мол, гражданская война в Испании близится к концу, и прогноз этот кажется верным, если мы вспомним, что войска Кейпо де Льяно уже стоят под стенами Бадахоса вместе с ихним Иностранным легионом и прямо рвутся в бой, жаждут крови, и жаль мне тех, кто осмелится противостоять им. Дон Мигель де Унамуно идет в университет, стараясь держаться в узкой тени, лежащей вдоль фасадов, леонское солнце калит камни Саламанки, но достойный старец ощущает на суровом челе дуновение прохлады, производимое, очевидно, веющими крыльями славы, и с удовлетворением в душе отвечает на приветствия сограждан, и отдают ему честь, беря под козырек или вскидывая руку, встречные военные, и каждый из них — воплощенный Сид-Кампеадор, который тоже ведь в свое время говорил, мол, спасем западную цивилизацию. В один из таких дней рано-рано утром, пока солнце не слишком припекает, вышел из дому и Рикардо Рейс и тоже постарался держаться в узкой тени, лежащей вдоль фасадов, пока не показалось такси, не повезло его, отдуваясь и переводя пух, вверх по Калсада-да-Эстрела на кладбище Празерес [68], — оно так много сулит и все на свете отбирает, даруя только тишину, а вот насчет покоя — дело сомнительное, и посетителю уже не надо справляться в конторе, он еще не позабыл ни местоположения, ни номера — четыре тысячи триста семьдесят один — и это не номер дома или квартиры, и потому не стоит стучать и осведомляться: Есть кто живой? — ибо если одного присутствия живых недостаточно, чтобы вызнать тайну мертвых, то уж эти слова и вовсе ни к чему. Подходит Рикардо Рейс к железной ограде, опускает руку на теплый камень, так уж причудливо расположена эта могила — солнце еще невысоко, но с самого восхода бьют сюда его лучи. С аллейки неподалеку доносится шарканье метлы, в глубине проходит вдова в глубоком трауре, даже краешек щеки не белеет из-под крепа. Иных признаков нет. Рикардо рейс спускается до поворота и, остановившись там, глядит на реку, на ее устье, которое, должно быть, родственно «устам» — ведь именно сюда приходит океан утолять свою неутолимую жажду, и здесь всасывающиеся его губы приникают к водным источникам земли, и согласимся, что всем этим образам, метафорам и сравнениям не нашлось бы места в жесткости античной оды, но и с одописцем изредка случается подобное, особенно в утренние часы, когда в нас то, чему полагается думать, предается лишь чувствованиям.
[68] Празерес (prazeres) — наслаждения, удовольствия (португ.).