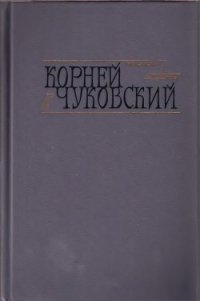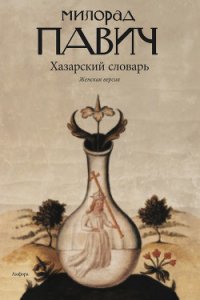Небесные всадники - Туглас Фридеберт Юрьевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .txt, .fb2) 📗
Эти точки-тире телеграфной ленты культуры тянутся из десятилетий в десятилетия, из столетий в столетия, делаясь то бледней, то ярче. И нужно уметь прочесть их, чтобы воспринять скрытый там поток чувств и мыслей.
Тогда слово «музей» все же напомнит о музах.
Никому не дано стать психологом до 30 лет. Скорее уж поэтом или философом. И ты видишь, чего не достает двадцатилетним «философам»: психологического чутья. То же случилось и с тобой.
«Опасный возраст» для мужчины — 25 лет. Восторженность юности миновала, а спокойствия созерцателя в тебе пока нет. Трудное время духовного кризиса, неопределенность переломного периода, о котором никто никогда не говорил, для большинства людей он просто проходит незамеченным.
Потому что есть от него отличные противоядия, они ударяют в голову, они пьянят, наполняют воздух иллюзиями. Есть борьба, есть радость любви, счастье скитаний. Это наполняет твою жизнь и ослепляет тебя. Но когда однажды наступает прозрение, тебе видится новый мир.
Если прежде это был порыв, любовь или круговерть красок, то теперь это только человек. Если прежде это была мечта, теперь это реальность, ощутившая почву под ногами. И проживи ты хоть Мафусаилов век {86}, выше этого ничего быть не может.
Как-то в ноябрьскую ночь, давно это было, ехал я по железной дороге. Я лежал на вагонной полке и поглядывал в окно. На землю снег еще не лег, а воду уже сковал лед. Железная дорога пролегала по мерзлому болоту, поросшему редкими чахлыми деревьями. Полная луна стояла в небе. Деревья пролетали мимо луны. Зеркалами блестели промоины, и над ними клубился дым паровоза.
В вагоне стоял полумрак. Тщедушный огонек свечи трепетал в фонаре над дверью. В полутьме угадывались серые фигуры усталых людей, которые спали, сидя или лежа на лавках. Лежащие мерно колебались назад и вперед, головы сидящих покачивались из стороны в сторону. Жаркое помещение было наполнено тяжелым, спертым дыханием.
И я почувствовал вдруг, насколько мы в самом деле чужды друг другу: сидим в одном поезде, в одном вагоне, в полусне одновременно качаем головами. Ночь вокруг, и воздух удушлив. Нас везет паровоз, которого мы не видим, и ведет машинист, которого мы не знаем. Вдруг свисток паровоза — остановка среди мрака. Кто-то очнулся, подхватил свои пожитки и торопливо вышел. А мы опять едем дальше — дремлем, спим, видим сны…
За окном и деревьями я вижу, как озеро выкатывает на берег волны, словно на японских рисунках. Вижу юную девушку, она стирает белье, полощет его, выжимает его.
Вижу старика, он гребет по глади озера, шляпа надвинута на глаза, белесо-желтая борода торчит в разные стороны пучками соломы. Он гребет мерно, без передышки, как житель Новой Зеландии, изогнувшись над своим корытом.
И где-то наверху надо мной слышен женский смех, такой звонкий и соблазнительный, словно в нем заключены целые миры.
Как странно: разве не видел я эту картину уже раньше, в мыслях своих? Разве не знаю я, как зовут эту девушку и старика? И разве не звенел у меня в ушах когда-то звонкий этот смех, пока я месяцы и годы писал одно из своих произведений? Да, разве эта реальность не есть всего лишь тень моих давних мечтаний?
М н о г о е и з т о г о, ч т о п о з ж е м н е д о в е л о с ь и з в е д а т ь в ж и з н и, я п р е ж д е п е р е ж и л в и с к у с с т в е.
Разве не повторяю я зачастую в жизни только то, что однажды пережил в воображении? И не именно ли поэтому утратила остроту моя собственная боль? Может, я эпигон самого себя, и в жизни мои чувства бесплодны, как чувства эпигона в литературе?
Девушка подняла корзину с бельем и ушла, старик давно скрылся за островами, а смех угас где-то вдалеке. Сквозь деревья я вижу только, как волны выкатываются на берег — без остановки, без передышки…
В городе, где я живу, посреди рынка стоит башня. Это древняя, шестигранная башня, высокая и безмолвная. Флюгер вращается на ее вершине. Каждый день я прохожу мимо этой башни и смотрю вверх на флюгер.
Как в ясные летние дни он часами стоит неподвижно. Как чутко поворачивается, показывая малейшее дуновение ветерка. Как крутится и мечется, когда с плаксивых туч срывается осенний шторм и солнце мертво.
Такова картина.
Не я ли это — навеки прикован к шпилю высокой башни. Не я ли это указываю глядящим снизу направление ветра, а сам привязан к месту. И не я ли это — посреди синего неба и буревого простора — ржавый, скрипучий флюгер.
Однажды сорвет меня ураганом!
— Бедняжка Лелиан {87}, что ты сегодня делал?
— Думал, думал.
— Над чем ты думал?
— Я думал, что наше бытие так бессмысленно, а небытие — еще бессмысленней. Я думал, как мало мы знаем, но и то, что мы знаем, противоречит нашим чувствам. Я познал полное незнание.
— Но для этого не надо было и думать.
— Да, я об этом тоже думал. Да, я знаю и то, что мое безумное напряжение мысли — пустое занятие, совсем пустое. Я даже знаю, что оно сожрет мои последние жизненные силы и заметно приблизит меня к полной пустоте.
— Так перестань же!
— Как же это возможно? Разве не станет и это плодом мысли? И разве не будет это признанием окончательного крушения всех надежд?
— О Лелиан, Лелиан!.. Взгляни в окно: пришла весна, синеет небо и сияет солнце. Мир прекрасен, чист и безоблачен. Встань, Лелиан, похоронивший себя в мыслях и не видевший жизни! Встань, взгляни: мир перед тобой!
Когда человек умирает, голос его уходит в ветер, дыхание — в воду, зрение — в солнце, мысль — в луну, слух — в высшие сферы, волосы с тела — в траву, волосы с головы — в деревья, в воде пребудет его кровь и семя — но куда же уходит с а м человек — его д у ш а, его я?
Так вопрошает в печали индийский мудрец. Но в конце концов это ведь завершающий импульс любых религиозных поисков: страх потерять свою личность, желание сохраниться как личность, боязнь умереть не столько телом, сколько сознанием. А иллюзия бессмертия души скрадывает этот страх.
Только вот восточная мечта оказалась логичнее западной. Предполагая бессмертие души после смерти ее земной оболочки, она должна была предположить существование души и до рождения этой оболочки. Так родилась идея вечного возвращения души, идея возрождения, перевоплощения. Но в итоге она оказалась еще ужаснее, чем однократное умирание. Так вот и возникла тоска буддизма по окончательному угасанию, по нирване.
Современные европейцы располагают более благоприятными предпосылками для мыслительной деятельности, нежели те мечтатели. Ее основа — научные факты о прошлом и современности. Кое в чем европейская наука уже достигла того, о чем мечтал еще буддист и это по-своему интересно. Но в любом случае он считал необходимым во многом ограничивать свои претензии, значение своей личности.
Поэтому и не было у него причин предполагать бессмертие ни до, ни после жизни. Не было у него никаких доказательств существования души, отделенной от земной оболочки. Его жизнь ограничена несколькими десятилетиями, до и после которых всего лишь небытие. Его вечность заключается только в длительности его собственной жизни и, умирая, он достигает своей нирваны.
Если и может быть какое-либо утешительное евангелие для мыслящего, то только это. Все, что у нас есть, есть только здесь — потом не будет ничего! Эта мысль может стать источником великого оптимизма, трамплином для нравственного толчка, стимулом звездного часа. Только ведомый таким убеждением, может когда-нибудь вырасти на этой планете «сверхчеловек», который возьмет от жизни все, что она содержит и отдаст ей все, что содержит сам, и окончит дни свои в спокойном сознании, в котором не будет места и тени сомнения. The rest is silence. Дальнейшее — молчание {88}.