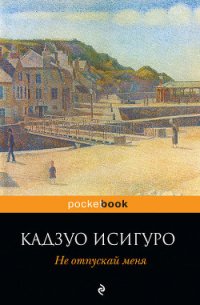Безутешные - Исигуро Кадзуо (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Она закрыла за собой дверь и, преодолев искушение выглянуть в окно, поспешила в ванную комнату, расположенную в задней части здания. Там она посмотрелась в зеркало и постаралась овладеть собой. Потом она отправилась в коридор и застыла в настороженной позе. Дверь в дальнем его конце была открыта нараспашку, и мисс Коллинз видела купавшуюся в солнечных лучах приемную, окно-фонарь и сквозь него тротуар, где, спиной к дому, расхаживал туда-сюда Бродский, словно бы кого-то ожидая. Некоторое время она не двигалась, внезапно со страхом вообразив, что он повернется, заглянет в окно и ее увидит. Тут он скрылся, а она стала машинально рассматривать фасады домов напротив, напряженно ожидая звонка.
Прошла минута, но колокольчик молчал, и в мисс Коллинз снова шевельнулся гнев. Она поняла: Бродский ждет, что она выйдет и пригласит его. Она снова заставила себя успокоиться и, обдумав происходящее, решила не показываться, пока он не позвонит.
Она ждала еще несколько минут. Сама не зная зачем, вернулась в ванную, потом вновь в коридор. Когда стало ясно, что Бродский ушел, она медленно направилась в прихожую.
Открыв дверь и поглядев направо и налево, мисс Коллинз удивилась тому, что Бродского нигде не было видно. Против ожидания, он не притаился у какого-нибудь соседнего дома и даже не оставил на крыльце букет. В тот момент ей не стало досадно. Напротив, она облегченно вздохнула, приятно взволнованная тем, что процесс примирения начался, но ни малейшей досады не ощутила. Собственно, когда она опустилась на стул в приемной, ей сделалось радостно оттого, что она не сдала своих позиций. Подобные мелкие победы, сказала она себе, очень важны: они помогут избежать повторения прошлых ошибок.
Лишь несколько месяцев спустя ей пришло в голову, что в тот день она поступила опрометчиво. Эта мысль была смутной, и мисс Коллинз не стала на ней сосредоточиваться. Но протек месяц, другой, и воспоминания о вечере накануне Иванова дня завоевывали все большее место в ее сознании. Ее роковой ошибкой, как она заключила, было то, что она скрылась за дверью. Она слишком многого от него ожидала. Поступить так значило чрезмерно многого от него хотеть. Проведя Бродского как на привязи за угол и мимо лавок, она должна была затем помедлить у калитки, убедившись предварительно, что он ее видит, и войти в сад Штернберг. Тогда бы он, несомненно, за ней последовал. Вначале они, быть может, блуждали бы среди кустов молча, но потом, рано или поздно, обязательно бы разговорились. И рано или поздно он вручил бы ей цветы. Все двадцать с лишним лет, прошедших с тех пор, стоило мисс Коллинз взглянуть на эту калитку, как у нее в груди что-то слегка сжималось. И в то утро, когда она наконец повела Бродского в сад, ее не покидало чувство, будто она совершает некий торжественный акт.
Сад Штернберг, занявший такое важное место в воображении мисс Коллинз, не представлял собой, однако, ничего выдающегося. Это было квадратное пространство, большей частью забетонированное, размером с обычную автомобильную стоянку при супермаркете. Оно не служило ни удобству, ни красоте, будучи интересным разве что для садоводов. Там не было ни травы, ни деревьев, только ряды клумб, – и, лишенный тени, сад ближе к полудню превращался в настоящее пекло. Но мисс Коллинз, оглядев цветы и цветочные кустики, от восторга даже захлопала в ладоши. Бродский аккуратно закрыл за собой калитку и окинул сад не столь одобрительным взглядом, но, по-видимому, остался доволен тем, что тут не было посторонних, если не считать жителей соседних домов: кто-то из них мог выглянуть в окно.
– Я иногда привожу сюда своих посетителей, – проговорила мисс Коллинз. – Здесь чудесно. Некоторые образчики очень редкие: таких нет больше нигде в Европе.
Она шла медленно, любуясь цветами, а Бродский почтительно отставал на несколько шагов. Еще недавно они в присутствии друг друга испытывали скованность; теперь же от нее не осталось и следа, так что случайный прохожий, заглянувший за ограду, решил бы, что привычную прогулку по солнышку совершает пожилая пара, уже много лет состоящая в супружестве.
– Вам, конечно, – продолжала мисс Коллинз, замедлив шаги у одного из кустов, – сады вроде этого никогда не нравились, не так ли, мистер Бродский? Вы не одобряете окультуренную природу.
– Ты не хочешь называть меня Лео?
– Хорошо, Лео. Нет, ты предпочитаешь естественность. Но, видишь ли, некоторые образчики просто не выжили бы без тщательного ухода и присмотра.
Бродский серьезно осмотрел лист, которого касалась мисс Коллинз. Потом спросил:
– Помнишь тот книжный магазин? Каждое воскресное утро после кофе в «Праге» мы его навещали. Куда ни глянь, все вокруг забито пыльными книгами. Помнишь? Тебе там надоедало, и ты раздражалась, но все же каждое утро после кофе в «Праге» мы туда отправлялись.
Несколько секунд мисс Коллинз молчала, затем усмехнулась и медленно побрела дальше.
– Головастик, – проговорила она. Бродский заулыбался.
– Головастик, – повторил он, кивая. – Так оно и было. Если бы мы сейчас туда вернулись, то, может, обнаружили бы его на старом месте, за столом. Головастик… Ты когда-нибудь спрашивала, как его зовут? Он был всегда так любезен с нами. А ведь мы не купили ни одной книги.
– Только однажды он на нас крикнул.
– Крикнул? Я не помню. Головастик всегда был так вежлив. А мы не купили ни одной книги.
– Ну да. Однажды лил дождь, мы вошли – и вели себя крайне осторожно, чтобы не закапать книги; отряхнули у входа пальто, но он, видать, был в дурном настроении и все равно на нас накричал. Не помнишь? Он кричал, что я англичанка. Он вел себя очень грубо, но только в то утро. На следующее воскресенье он как будто все забыл.
– Забавно. У меня это выпало из памяти. Головастик… Мне он вспоминается робким и вежливым. А того, о чем ты рассказываешь, я совершенно не помню.
– Может быть, я ошибаюсь. Наверное, я его с кем-нибудь путаю.
– Скорее всего. Этот Головастик был сама любезность. Он бы никогда себе такого не позволил. Кричать, что ты англичанка? – Бродский потряс головой. – Нет, он всегда был предельно учтив.
Мисс Коллинз снова остановилась, обратив внимание на какое-то растение.
– Тогда таких людей было полно, – произнесла она наконец. – Именно таких. Они бывали вежливы до крайности, сама терпимость. Рассыпались в любезностях, готовы были из кожи вон вылезти ради тебя, но в один прекрасный день, без особых причин – из-за погоды, к примеру, – вдруг взрывались. Потом вновь приходили в норму. Таких было без счета. Возьми хоть Анджея. Он был как раз такой.
– Анджей был сумасшедший. Знаешь, я где-то читал, что он погиб в дорожной аварии. Да, читал в польском журнале, лет пять-шесть назад. Погиб в автомобильной катастрофе.
– Печально. Думаю, нет уже многих из тех, кого мы знали в прежние дни.
– Мне нравился Анджей. В польском журнале было самое краткое сообщение, что он погиб. Авария. Я огорчился. Вспомнил те вечера на старой квартире. Как мы кутались в пледы, пили кофе, примостившись среди груд книг и журналов, и болтали-болтали. О музыке и литературе. Час тек за часом, мы глазели в потолок и болтали без конца.
– Я уходила спать, но Анджей не трогался с места. Иногда он оставался до рассвета.
Мисс Коллинз улыбнулась, потом вздохнула:
– Как печально, что он погиб!
– Это был не Головастик, – продолжал Бродский. – Это был смотритель в картинной галерее. Это он на нас накричал. Странный был какой-то: вечно делал вид, будто нас не узнает. Помнишь? Даже после представления «Лафкадио». Официанты, таксисты – все норовили пожать мне руку, но в галерее – ничего подобного. Он глядел на нас с каменным лицом – всегдашнее его выражение. И в конце, когда дела пошли плохо, мы явились в дождливый день, и он на нас накричал. Заявил, будто мы наследили на полу. И не в первый раз, это тянется годами, во время дождя мы разводим грязь – и он сыт этим по горло. Именно он, а вовсе не Головастик, накричал на нас и обвинил тебя в том, что ты англичанка. Головастик всегда был любезен, с начала и до конца. Помню, он пожал мне руку, как раз перед нашим отъездом. Помнишь? Мы пришли к нему в лавку в последний раз, ему это было известно, и он вышел из-за стола и пожал мне руку. Мало кто пожал бы мне руку в те дни, но он пожал. Он был сама любезность, этот Головастик, с начала и до конца.