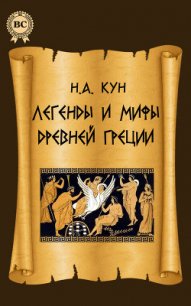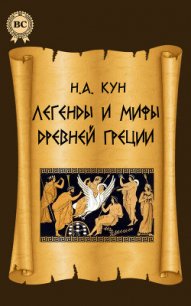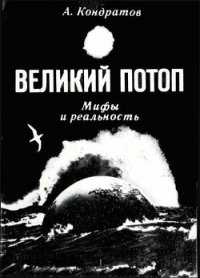Оракул петербургский. Книга 1 - Федоров Алексей Григорьевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Через какое-то время он получил от нее письмо, в котором сообщалось, что вместе с Муськой она уже перебралась в Израиль, на Мертвое море. Муза просила сохранить ее адрес и писать чаще; оставила телефон, звала в гости, подробностей о своей новой жизни не сообщала. Все же земля обетованная позвала к себе на время заблудившуюся в холодной России душу. "И это, наверняка, правильно," – думалось Сергееву. Ему самому пора было заканчивать с прошлой жизнью и начинать осуществлять выполнение договоренностей с Магазанником. Его сдерживала, вдруг неожиданно разросшаяся с легкой руки Записухиной, дрязга вокруг командировки.
Вышел приказ главного врача, в котором Сергееву объявлялся "строгий выговор за нарушения трудовой дисциплины и аморальное поведение в период командировки". Такие плевки прощать нельзя ни в коем случае, – пришлось подавать иск в Суд. Теперь разбор в суде затягивался: требовался вызов свидетелей. Обещали приехать Иванов и великолепная четверка подружек, которых тоже приплела моложавая администрация к скабрезному делу.
Великий Наполеон Бонапарт, который, как известно, почтил мир своим присутствием еще в период с 1769 по 1821 год, был непревзойденным мастером не только воинских баталий, но и административных акций. В свое время, настрадавшись от общения с горе чиновниками, он заявил: "Наивысшая безнравственность – это, когда берешься за дело, которое не умеешь делать". Сентенции великого человека можно опустить до уровня критики бытового маразма, окружающего нас со всех сторон. Когда Сергеев в первый раз пришел в суд и увидел, кого администрация выставила в качестве своего официального представителя, ему стало и грустно и смешно.
Ему подумалось: из какой сказки Ханса Кристиана Андерсена они откопали эту ужасную толстуху – Клотильду? В далекие годы такие поселялись только в борделях приграничных городов. Там по совместительству они торговали не только телом и совестью, но и арбузами, табаком, прокисшим вином, да поношенной одеждой, украденной у временных постояльцев. Могут такие проживать и где-то в районе Мелитополя, Житомира, Касриловки. Неповторимый Шолом-Алейхем (Шолом Нохумович Рабинович) в далекие годы своего творчества (1859-1916) штамповал такие образы пачками, забавляя читателей колоритными рассказами. Но Суд, пусть даже первой инстанции, забавлять ведь никому не позволено, – не для того собрались!
Сергеев, наблюдая косноязычную, вконец изовравшуюся адвокатшу, почему-то представлял ее в домашних условиях. Картина рисовалась печальная: она копошилась на кухне, у плиты; была в грязном фартуке и в длинном неопрятном халате, за который цеплялись синими ручонками откровенно сопливые, с разросшимися аденоидами детишки. Обязательно – четверо или пятеро. На голове у Клотильды скособочился, безусловно, не парадный – серебристый, а старый, изъеденный молью, пепельного цвета парик, со слипшимися и порушенными старостью патлами. Муж же, – нервный и тощий, – скрывался от своей психеи, от семейного счастья на сверхурочной работе, в конторе частного предприятия. Ясно, что держательнице адвокатского диплома, специальное образование далось труднее, чем золотарю высшая математика.
Теперь она своими несуразными пассажами бесила судью – сравнительно молодого человека, видимо, сильно презиравшего любое вранье и даже святую глупость. Бой шел не на жизнь, а на смерть.
Но, когда Клотильда, как неловкий карточный шулер, попыталась, словно из рукава, выволочь на судейский стол очередной фальшивый козырь (какой-то поддельный документ), судья пригрозил ей драконовскими санкциями.
Картину несколько скрашивала секретарь суда, – ее звали Татьяной (сугубо русское имя). Но внешность молодой (лет двадцать, не более) судебной жрицы явно свидетельствовала о родстве с греческой Фемидой: прекрасный античный профиль, идеальная грудь, точеные руки и ноги и начинающаяся издалека приятная полнота самых ответственных частей тела, – это как раз то, что сильно уводит в сторону сознание зрелого мужчины.
Сергеев еще подумал: "Навряд ли от таких соблазнов уклонился судья – ее шеф, главный жрец в этой мрачной судебной палате". Но поводов для развития подозрений ни та, ни другая сторона не давали! Пришлось фантазировать: надо же и ему, судье, когда-то отдыхать, скромно развлекаться, не отъезжая далеко от служебных дел. Сергеев знал точно, что лично у него не хватило бы запаса аскетизма для долгого акта воздержания.
Все портило содержание головы еще неразвитой полностью Фемиды. Она, по младости лет, не была волшебником, а только училась. Винить ее в том нельзя: все россияне основательно смещены в сторону посредственности, стихийности формирования умственных задатков пагубным влиянием советской школы. Вместо того, чтобы тянуться "к правде и одной только правде", зеленеющая молодость проявляла женскую солидарность, – Таня явно симпатизировала толстухе Клотильде, подбадривала ее взглядом.
У Сергеева даже появились липучие подозрения: не вносит ли Татьяна в протокол судебного заседания всякие несущественные "бяки". Однако авторитет неподкупности, явно излучавшийся строгим судьей, не дал развиться легкомысленным подозрениям. И Сергеев совершенно в трезвом сознании произнес глубокомысленно, несколько перепугав зрителей: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень" (От Иоанна 8: 7). Реакция обывателей понятна, – святые слова еще не вошли прочно в лексику правозащитников, ими оперируют пока что только образованные эскулапы.
Кульминация судебного заседания, – допрос свидетелей, – доконала судью: он метал громы и молнии и было за что. Обвинение расползалось по швам: никаких объективных данных не было за то, чтобы пустой донос, рожденный по личным нездоровым мотивам, рассматривать, как серьезный компромат. Не понятно, на чем основывали свою административную прыть новоявленные больничные вельзевулы.
Судья объяснял надутой Клотильде, что в интересах администрации пойти на мировую, иначе дурацкий приказ все равно будет отменен и взыскана компенсация за моральный ущерб. Однако давно замечено, и сформулировано сатириком Михаилом Жванецким: "Женщину склока не портит, а лишь освежает". Нет оснований не доверять его прозорливости. "Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской" (1-е Коринфянам 10: 21).
Понятно, что разбушевавшаяся женщина, оперирующая недоброкачественными версиями и поддельными документами, была заряжена выше головы сексуальной агрессией и никакого разумения в ней уже не оставалось. На ней от такого задора само собой могло лопнуть трико, но разбить доводы Сергеева и свидетелей Клотильда уже не могла.
Безусловно, элитарной формой сексуального переноса является только привязанность к нежным, благородным существам – кошкам. Поглаживание ласковые шкурки, человек великолепно снимает напряжение, снижает артериальное давление, минимизирует стресс. Но не тащить же с собою в суд кошку и не внедрять ее в бесчестные руки Клотильде – отравительнице, мастерице варить ядовитое зелье оговора.
Да и, по правде сказать, такая форма наслаждения дана лишь тонким мужским натурам. А женщины здесь, вообще, не при чем. Им предоставляется возможность ухаживать за птицами: обучать несложной беседе попугая, с помутненным взором внимать трелям соловья или, на худой конец, разводить кур, гусей, индюшек исключительно для того, чтобы восполнить восторг общения с яйцами.
Но Клотильда, скорее всего, использует иное наслаждение, – пьет кровь из мужчин-неврастеников, запуганных мазохистов. Ее нежность – это резвость вампира, не мучающего долгим терзанием, а быстро и ловко прокусывающего пульсирующую артерию. Таких виртуозов в средние века добросовестная инквизиция отлавливала и моментально сжигала на кострах, предварительно удалив без наркоза огромные клыки и когти.
Однако нет никакого сомнения, что любая женщина и, особенно, занятая адвокатской деятельностью, обязана поклоняться только Божьей Матери. "Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступивши, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того о чем говорят, ни того, что утверждают" (1-е Тимофею 1: 5-7).