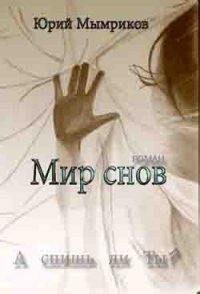Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
Но чем больше изумлялся, тем больший стыд охватывал – стыд за себя самого, едкий, прилипчизый, как запах пороха. Отчего? Я отгонял его.
Но стыд становился острее, когда я снова и снова воскрешал образ Панина-хефтлинга.
Ночь. Темноту вспарывает луч прожектора – полоснул по лаковому, стремительному боку машины, и вот уж нет ее, как не было. А Панин смотрит вслед и в первый миг не слышит даже окрик эсэсовца у дверей комендатуры. Но тем поспешней в миг следующий грабастает с головы полосатую шапчонку, и рукав куртки свободно скользит по истонченным костям, становится явственным на запястье «номер телефона на небо» – татуировка. А выслушав приказ охранника, Панин с такой же механической, чеканной поспешностью цепляет шапчонку на выстриженный затылок и идет в черный провал лагерной «брамы» – ворот, отделяющих почти фантастический мир штатского, обыденного городка, в котором, однако, только что побывал Панин, от мира, где ждет его иная обыденность – фантасмагории, ставшие привычными: «кролики» и «небесные шуты», «поющие лошади» и «райские птички», и «трупоносы», «зеленый ужас» капустной баланды, «торжества» экзекуций у «стены вздохов», «мусульмане», пережившие «лагерный коллапс», и «конечная станция» крематория… А над ним-то, над крематорием, сейчас черный дым на фоне черного неба – дым будто б растворялся, исчезал напрочь, будто б и не было тех, кто погиб в крематории.
Может, именно в тот вечер и мелькнула у Панина мысль – желание найти материальные основы памяти, нейроны, молекулы? – нечто осязаемое, вполне реальные частицы тех, кто вот сейчас исчезает в ночном небе… Вполне могли такие мысли прийти к Панину именно в тот вечер. Не случайно же, в самом деле, после сессии ВАСХНИИЛа 1948 года генетик Панин занялся исследованием проблем памяти, а не чем-либо иным.
Но пока-то идет Панин, не оглядываясь, со спины он похож на мальчишку-беспризорника, совсем пропащего.
Наверно, хефтлинг-одиночка выглядит куда страшней, чем все они вместе в колонне, А Панин только что прожил день, полный такого одиночества – среди родных, которые не могут стать родными, – полный свободы, после запроволочного бытия столь безудержной, что даже помыслить страшно о ней, не то чтоб прикоснуться. А Панин и прикоснуться сумел, и отказаться от нее…
Тут я сказал себе: «Стоп! Мальчишка-беспризорник…
Долгов. Мой крик на него – не оттого ль едкий стыд?..»
Нет, не так-то все просто.
Это все чепуха: и стрелка спидометра на правой стороне циферблата, и скорость, которой я сам же и упивался, и то, как полз по снегу к Долгову, что-то выкрикивая небу, вдруг ставшему близким, размалеванному ржавчиной с борта самосвала… Да! Вот оно – ржавчина на блеклом небе, цвет смерти, бездонное оконце, в которое я заглянул краем глаза, и оттого-то начал глушить боль водкой и позволил себе кричать уже здесь, несколько недель спустя на человека, потерявшего память, себя потерявшего! Ну да! – именно этим я и оправдывался: дескать, заглянул за край, а значит, все позволено, все грехи отпущены загодя.
Но что ж тогда им – Панину, Ронкину, Токареву – говорить себе и как жить, если им-то не просто примерещилось то оконце, а было оно распахнуто настежь, и стояли они на смертном сквозняке не мгновенье, не час, не неделю и месяцы – годы, напролет – годы…
И никаких компромиссов с совестью, уступок низменно-плотскому, которое конечно же есть в каждом из нас… Или привыкли к этому окну настежь?
Но разве можно привыкнуть к такому?..
Тут я иное вспомнил: спор не спор, перемолвку, а точнее – рассказ Ронкина, отчего и как погибали люди в концлагере, а чем спасались. И вспомнил, насколько вживе были для него самые малейшие пустяки, как изменилось, просветлев, скуластое лицо, когда он вновь представил себе: вот сейчас – не тогда, а сейчас – их вывалили из опрокидывающихся вагонеток на станционный асфальт Зеебада, идут они, закоченевшие под дождем, в барак, сляпанный на живую нитку, а ночью им переправляют туда незнакомые люди, иных корней, иных языков, обычаев, обделенные всем, чем только можно обделить человека, – тайно передают одеяла и одежду, и еду, и слова ободрения.
И еще вспомнил я со стыдом, от которого теперь меня бросило в жар, но я уж будто бы и не казнился им, не таил, а вроде рад был ему – рад стыду? возможно ль такое? – еще вспомнил я, как назойливо выпытывал у Панина: откуда, мол, у него такой интерес к моей малозначительной персоне, внимание, не угаснувшее за долгие часы, потраченные на меня.
Какой же я глупец – и в этих вопросах своих опять выплясывал, как от примитивной печки-«буржуйки», – от себя самого, в общем-то и не подумав о собеседнике, не поняв: помогать нуждающимся в помощи, а тем более ищущим ее – давным-давно стало для Панина, прошедшего школу лагерной взаимовыручки, потребностью, такой же необходимой и вовсе не требующей объяснений, как потребность дышать, думать.
И вот когда мне наконец пришла на ум эта догадка, от которой вроде еще горше нужно было б казниться, – случилось обратное: вдруг я почувствовал себя легким и сильным и даже решился приподнять голову и чутьчуть – плечи, уперев локти в твердый матрац, взглянул в окно. Как раз вровень с ним колыхались все те же, что и в предыдущие дни, ветви сосны, но нет, стали иными они: раскачиваясь стремительно, будто бы шли вкруговую, и каждая иголочка их выплясывала в своем ритме, и всё стремительней, стремительней. А может, оттого это, что попросту кружилась у меня голова с непривычки, близь и даль ходуном ходили.
В отделенье нашем только что начался мертвый час.
Утихли голоса, стоны в палатах и скрип половиц в коридоре, стук и бряк посуды, костылей, шорканье тапочек, стоптанных вереницами сменяющих друг друга больных, а тапочки все одни, только вот путаются часто левые и правые из разных пар, потому что приходится в них ходить одноногим тоже, – все звуки отлетели, как не были. Даже ветер, качающий сосны на улице, не слышен за окном. Тишина показалась действительно «мертвой», и, может, потому безудержно захотелось немедленного действия. Но я еще не знал, что должен сделать.
Позвал шепотом:
– Федя!
Пока я читал панинские записки, Федя-говорок входил в палату и выходил, примеривался ко мне взглядом так и эдак. Даже спрашивал что-то поначалу, я отмахивался. И теперь он лежал на койке. Кажется, задремал.
Но голову поднял тут же и взглянул на меня с тревогой.
Сперва мне было нужно рассказать ему эту историю о сводных братьях, Панине и Труммере. Честно говоря, я побаивался, скажет Федя в ответ что-нибудь утлое: мол, интеллигентское чистоплюйство – остаться в лагере, а Труммер застрелился – так ему и надо.
Но Федя слушал не перебивая, боясь помешать, хотя и сквозило порой в его круглых черных глазах недоумение, но чаще – задавленная боль, даже кожа на лбу и скулах временами темнела от напряженного ожидания: куда повернет мой рассказ?.. И только когда я кончил говорить, Федя рывком поднялся на костыли, прошкандыбал по палате от койки к двери, вернулся обратно, встал, – костлявая загогулина в нижнем, широком ему белье. Воскликнул:
– Вот как бывает! – на краю смерти от своего отказаться! Я ж до сих пор о концлагерях этих ощупью знал – ну, слышал мельком. А тут эвон как! – Помолчал и, вдруг просветлев лицом, – опять будто фонарь в черепушке зажегся, – проговорил, сам радуясь своей догадке и явно желая меня успокоить: – И немец – чудак… Но вот что я скажу, Сергеич: Труммер этот, тоже и он ощупью, впотьмах пробирался, чтоб хотя бы для себя свет зажечь. И хоть не однодневка-бабочка, которая на свету гибнет, а вишь ты!.. Но все же не грохнулся со всего маху: что-то хотел и для других сделать, не только для брата: докладную его много людей прочло.
Видно, очень опрятный был в душе человек – вот что важно! Ему бы еще хоть один шажок сделать подальше.
Глядишь, и добрался бы до света, а? Но небось все у него в душе уже вскипело, потому и… Я вот тоже, если, к примеру, накричат на меня, накричат только – ну, никак не могу, враз вскипаю! А уж на что мирный человек. Правда ведь? Ты же видел?