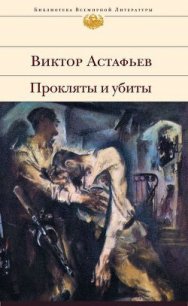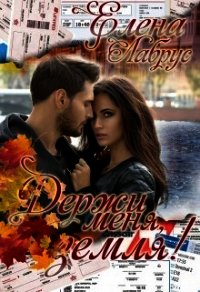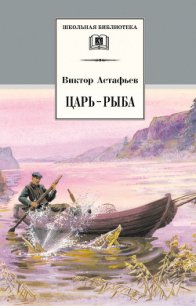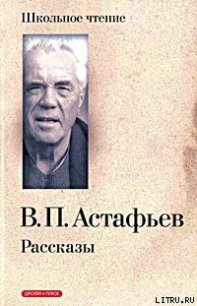Чертова яма - Астафьев Виктор Петрович (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации txt) 📗
«Не-эт, здесь хлопцы ничего, с этими еще повоюем», — взбодряя себя, думал майор Зарубин, сразу же после госпиталя выхлопотавший себе направление на фронт с резервными подразделениями.
В сформированные части срочно отправлялось оружие, боезапас, письменным приказом под ответственность командиров частей в пути следования и в эшелонах изучение транспортной и боевой техники не должно было прекращаться.
«Сожгли безоружное ополчение под Москвой, сгубили боеспособные армии под Воронежем и в Сталинграде, с колес, необстрелянных, плохо обученных людей бросая в бой, теперь вот спохватились, уразумели, нельзя так дальше воевать. России может не хватить на многолетнее истребление, всеобщий убой, и она, родимая, не бездонный колодец!» — толковал генералу Лахонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии, полегли они на западных рубежах страны во время боев и отступления в сорок первом году, попали в плен, да и поныне, уже во глубине России, на окраинах ее гибнут в наших концлагерях.
Со своими ротами на позиции отсылалось все командование первого батальона, себя скомпрометировавшее в тылу нападением солдат на командира, дезертирством братьев Снегиревых, дезорганизацией суда над Зеленцовым, воровством, разгильдяйством и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах эркака. В штабе военного округа не могли позволить, чтобы командиры непобедимой Советской Армии, допустившие такие промахи, продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражавшегося фронта, тем более в таком достославном полку, как двадцать первый, не раз отмеченном благодарностями местного и главного командования. Где гарантия, что впредь эти командиры не допустят упущений в ответственной работе? Не-эт, пусть уж лучше будут там, где им хочется быть. С Богом! Здесь вон орлы в очередь стоят, в затылок друг другу горячо дышат, глазами «сиятельств» пожирают, готовые проявлять денно и нощно всяческое усердие и послушание и отличиться, чтобы только не в пекло, не на этот всех и вся пожирающий фронт. Выжить, любым способом выжить, уцелеть, продлить свои достославные дни. И шныряли по тылам, докладывали, обманывали, доносили, предавали служивых бесовски ловкие ярыжки с лицами и ухватками дворовых холуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и лизоблюдом, и хамом.
Скорик уже уехал. Пшенного тоже куда-то девали, и хорошо сделали — ребята из первой роты собирались «потолковать» с ним на прощание, а если такие основательные парни, как Костя Уваров и Вася Шевелев, потолкуют да им поможет псих Булдаков — лекарств в санчасти не хватит лечить товарища Пшенного…
Не только командиры проштрафившихся рот, но и участвовавшие в боях, минометная рота, взвод пэтээрщиков, полурота пулеметчиков с новыми «максимами», со своим конным обозом из двадцати подвод тоже уходили на фронт. Все добро сколочено, смолочено, выхлопотано, вырвано из глотки, завезено, выстроено не без участия и энергии командира полка. Командование округа было довольно его деятельностью, и хотя полковник Азатьян целился уйти со своим полком на фронт, настаивал, ругался, рапорты писал — все его просьбы остались без удовлетворения.
Крестьянину на базар снарядиться — и то мороки сколько, хлопот, а тут ведь не на базар, не к теще на блины снаряжались люди — на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Бердск и Новосибирск, поражались, как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нар в вагонах и кончая оружием, боеприпасами, лошадьми, провиантом, приборами для разведки и наблюдений. Говорили, что это лишь малая часть добра и оружия, что довооружение произойдет уже в прифронтовой полосе, в армии, в которую вольется Сибирская стрелковая дивизия. И все это добро стоило денег, труда, ведь только чтобы сутки пропитать один лишь двадцать первый полк, десять его тысяч человек, — не одному району, не одной фабрике надо сутки, может, и неделю работать. А ведь еще и обуть, и одеть, и обогреть, и вооружить надо, да и дармоедов содержать надо, их в армии, дармоедов-то, столько, что на колхозных счетах и не сосчитаешь. Какое же это разорительное дело — война, начинали понимать молодые парни и рассуждать на эту тему пробовали.
Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, предвидеть, лишний раз перепроверить. Повидавший в прах разбитые, на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей и повозки, оружие, людей, он знал дорогую цену военному имуществу, с надсадой изготовляющемуся мирным народом, разоренной стране нужны еще будут и добро и люди, ох как нужны. Хватит уж сорить людьми, хватит сорок первого года, когда лучшие бойцы погибали, не увидав врага, не побывав даже в окопах, под бомбежками в эшелонах, на марше; не дойдя до передовой, целые соединения оказывались в котле, в окружении, все их обучение военной науке, вся их жизнь полуголодная, многотрудная, часто чудом сохранившаяся в надломленно живущей стране, — все-все это шло насмарку. Напрасная гибель, бесполезная жизнь — ах, как горько это знать.
И дай Бог, чтобы там, под Сталинградом, полк этот, вливающийся в свежую дивизию, закрепился, повоевал, закалился в боях, принес бы ту пользу фронту и облегчение стране, ради которой, напрягая все силы, изнемогая, работает народ, ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Эти вот самые ребята, строго подобравшиеся в напряженном строю, разом посерьезневшие.
Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трем ступенькам на крохотную праздничную трибуну, краска на которой не подновлялась с 7 ноября, облупилась от морозов, обвел плотно стоящих поротно бойцов, слившихся в сплошные кремовые полосы — полушубки, воротники, загнутые рукава и шапки с белой оторочкой смотрелись ранними сибирскими подснежниками с чудным названием сон-трава, которыми скоро, совсем скоро засияют берега Оби, оживится просторный бердский сосняк, но эти парни уже не увидят вешнего цветения.
— Товарищи! — негромко произнес командир полка и замолк, сдавил перила трибуны руками в черных перчатках. — Это какое же сердце надо иметь, чтобы все время отправлять и отправлять вас туда. Вы же… вы же все мне дети! Мои дети! Ах, Господи, лучше бы мне с вами, может, я бы пригодился вам, кому помог, кого уберег… Какие вы все еще молодые!.. И какие красивые!.. А война все идет, все идет! Мы пытались делать для вас добро. С добром в сердце отправляйтесь на фронт и вы. Выполняйте честно свой долг! Бейте врага! За матерей, за сестер, за Родину, за Сталина и… за меня маленько! — Полковник Азатьян слабо улыбнулся, строй чуть шевельнуло. — За меня, за всех нас! Мы вам желаем жизни, скорого возвращения домой с победой! Ура, товарищи!
Негромкое и недружное «ура» последовало в ответ — не привыкли в двадцать первом полку кричать «ура», да и учиться незачем было, на фронте его тоже не кричат — в кино только, в военном, героическом, кричат и дурачат врагов, крушат их весело и забавно, порой даже поварским черпаком.
Крикнув «смирно!», полковник Азатьян сбежал с трибуны и, перейдя на размеренный торжественный шаг, приблизился к генералу Лахонину, красиво вскинул руку к каракулевой папахе.
— Товарищ генерал-лейтенант! Маршевые роты двадцать первого стрелкового полка готовы следовать по назначению!
Генерал Лахонин принял рапорт, пожал руку полковнику, они встали в ряд — генерал, полковник и майор.
— Товарищи командиры и красноармейцы! Благодарю за службу! — подобравшись, внятно и четко сказал генерал Лахонин.
В ответ выдано было: «Служим-совску-су-зу!»
— Вольно! После десятиминутного перерыва всем снова в строй.
Бойцы толкались, смеялись чему-то, все возбужденно радовались, охотно табаком, у кого он велся, делились, в полку его так ни разу и не выдали, кто незнаком, знакомились, ведь теперь они все родня друг другу — фронтовики. Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили — там-то пропасть не дадут! Никакого зла, остервенения, никаких придирок друг к другу, словно бы все прошли чистилище, одновременно и от скверны душевной избавились, однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали: идут они все-таки в окопы, на смерть, — изо всех сил пытались представить, да и Бог с ними, с окопами, пока вот волнительно все, дружно, торжественно, как бы и празднично даже, оттого ребята веселы, компанейски спаяны. Бесшабашность их посетила: да мы, да там, да так дадим! Не надсаженные еще окопной жизнью, не битые, чистые пока, здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытавшие, да и сердца не надсадившие, сердце за них надсаживали, страдание и смерть принимали родители, силясь в голодные годы, при разгуле бесовства, в царстве юродивого деспота — выкормить, поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы, которая им предстояла.