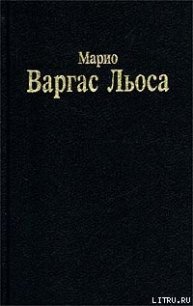Нечестивец, или Праздник Козла - Льоса Марио Варгас (полная версия книги .txt) 📗
– Мне пришло в голову, когда я увидел, какая она стала красивая, – пробубнил он в четвертый или пятый раз. У него неприятное ощущение в горле, терзает боль? Он то и дело мотал головой и все время кончиками пальцев поглаживал шрам. – Если у тебя неприятное ощущение от разговора, считай, я ничего не говорил.
– Ты говоришь зло и подло, – неожиданно взрывается тетушка Аделина. – Говорить такое о своем отце, покойнике при жизни, только и ждущем конца. О моем брате, человеке, которого я больше всех в жизни любила и уважала. Ты не уйдешь из этого дома, Урания, пока не объяснишь, за что ты его так оскорбляешь.
– Я говорю так зло и подло потому, что нет слов, чтобы выразиться еще резче, – спокойно поясняет Урания. – Если бы они были, я бы их произнесла. Наверняка у него были свои доводы. Смягчающие обстоятельства, причины. Но я его не простила и не прощу.
– Почему же ты ему помогаешь, если так ненавидишь? – Старуха вся трясется от возмущения и бледна так, что, кажется, вот-вот хлопнется в обморок. – Зачем же, в таком случае, держать сиделку, кормить его? Пусть бы помирал себе.
– По мне, лучше пусть живет так, покойником при жизни, и страдает, – говорит она очень спокойно, опустив глаза. – Поэтому я ему помогаю, тетя.
– Да что же он тебе сделал, что ты его так ненавидишь и говоришь такие чудовищные вещи? – Лусиндита воздевает руки кверху, не веря тому, что услышала. – Боже правый!
– Ты удивишься тому, что я сейчас тебе скажу, Мозговитый, – воскликнул Мануэль Альфонсо с надрывом. – Когда я вижу красавицу, настоящую женщину, из тех, что кружат мужчинам головы, я не думаю о себе. А только лишь о Хозяине. Да, о нем. Хотелось бы ему сжать ее в своих объятиях, любить ее? Я этого никому не рассказывал. Даже Хозяину. Но он это знает. Что он всегда для меня – прежде всего, даже в этом. И заметь, Агустин, я очень люблю женщин. Но не думай, что для меня было жертвой уступать ему самых красивых женщин или что я делал это, желая подольститься, получить какие-то блага, выгодные дела. Так считают люди низкие, свиньи. Знаешь, почему я это делал? Из любви к нему, из сострадания и жалости. Ты можешь меня понять, Мозговитый. Мы с тобой знаем, какой была его жизнь. Работа – от зари до зари, семь дней в неделю, двенадцать месяцев в году. Заботиться обо всем, от самого важного до мелочей. И каждый миг принимать решения, от которых зависят жизнь и смерть трех миллионов доминиканцев. Чтобы запихнуть нас в XX век. И при этом он должен печься о недовольных, о неблагодарной, серой массе. Разве такой человек не имеет права время от времени отвлечься от забот? Разве не заслуживает он нескольких минут наслаждения с красивой женщиной? Эта одна из немногих компенсаций в его жизни, Агустин. И потому я горд, что являюсь тем, чем называют меня злоязыкие змеи: сводней Хозяина. Чрезвычайно горд!
Он поднес к губам стакан и взял в рот кусочек льда. Долго молчал, измученный длинным монологом, посасывал лед и думал. Кабраль смотрел на него и тоже молчал, поглаживая свой полный стакан.
– Бутылка кончилась, а другой у меня нет, – извинился он. – Выпей мой стакан, я больше не могу.
Посол кивнул и протянул ему пустой стакан, Кабраль перелил в него невыпитое виски.
– Меня взволновали твои слова, Мануэль, – очень тихо сказал он. – Но ничуть не удивили. То же самое, что ты испытываешь по отношению к Хозяину – восхищение, благодарность, – всегда испытывал и я. Поэтому я так страдаю от создавшейся ситуации.
Посол положил ему руку на плечо.
– Все уладится, Мозговитый. Я поговорю с ним. Я знаю, как сделать. Я не скажу ему, что это моя идея, скажу, что твоя. Что это инициатива Агустина Кабраля. Беззаветно ему верного, даже когда он в беде и унижен. Ты Хозяина знаешь. Он любит благородный жест. Может, годы и дают себя знать, и здоровье уже не то. Но зова любви он никогда не оставлял без ответа. Я все устрою самым тактичным образом. Не беспокойся. Ты восстановишь свое положение, и те, кто повернулся к тебе спиной, очень скоро выстроятся в очередь у этой двери. Ну, мне пора. Спасибо за виски. Дома мне не дают ни капли спиртного. Как приятно было моему несчастному горлу ощутить это горячее, чуть горьковатое пощипывание. Прощай, Мозговитый. И хватит печалиться. Положись на меня. Лучше подготовь Ураниту. Не вдавайся в детали. Не нужно. Детали – за Хозяином. Ты и представить себе не можешь, как он деликатен, как нежен, как обходителен бывает в таких случаях. Он сделает ее счастливой, отблагодарит, обеспечит ее будущее. Он всегда так поступал. А уж в отношении такого красивого, прелестного создания – тем более.
Пошатываясь, он дошел до порога и вышел, негромко хлопнув дверью. С дивана, где сидел, все еще сжимая в руках пустой стакан, Агустин Кабраль услышал, как отъехала машина. Он был раздавлен, не осталось ни сил, ни воли. Наверное, не сможет даже подняться на ноги, взойти наверх по лестнице, раздеться, войти в ванную, почистить зубы, лечь в постель, погасить свет.
– Ты хочешь сказать, что Мануэль Альфонсо предложил твоему папе, чтобы… чтобы?… – Тетушку Аделину душит гнев, она не может закончить фразу, не находит слов, чтобы пристойно выразить то, что намерена сказать. И кончает тем, что грозит кулачком попугаю, который и не думал раскрывать клюв: – Молчи, мерзкая тварь!
– Я не хочу сказать. Я рассказываю то, что было, – говорит Урания. – Если не хочешь слушать, я замолчу и уйду.
Тетушка Аделина раскрывает рот, но сказать ничего не может.
Впрочем, Урания не знала подробностей разговора, который происходил между Мануэлем Альфонсо и ее отцом в ту ночь, когда первый раз в своей жизни сенатор не ушел спать в спальню. И заснул в гостиной, одетым, пустой стакан и бутылка из-под виски стояли у его ног. Это зрелище, представшее глазам Урании наутро, когда она спустилась позавтракать перед школой, потрясло ее. Папа не пил, наоборот, он осуждал пьющих людей и гуляк. Он напился от отчаяния, оттого, что был загнан в угол: его преследовали, расследовали, сняли с работы, заморозили его банковские счета, и все за то, чего он не делал. Она рыдала, обнимая своего бедного папу, спящего в кресле. Он открыл глаза, увидел ее рядом, в слезах и стал целовать-утешать: «Не плачь, сердце мое. Мы выберемся, вот увидишь, нас не одолеть». Он поднялся из кресла, привел в порядок одежду, проводил дочку завтракать. А когда гладил по голове и просил, чтобы она ничего не рассказывала в школе, то смотрел на нее очень странно.
– Должно быть, мучился, думал, что делать, – предполагает Урания. – Не бежать ли за границу. Но он бы не смог войти ни в одно посольство. После санкций ни одного латиноамериканского посольства не осталось. Да и calies рыскали вокруг и сторожили двери тех, что остались. Наверное, он прожил ужасный день, боролся с совестью. Вечером, когда я вернулась из колледжа, решение было уже принято.
Тетушка Аделина больше не протестует. Только смотрит, и в глубине ее запавших глаз упрек мешается с ужасом и с недоверием, которое, несмотря на все ее усилия, постепенно гаснет. Манолита раскручивает и снова накручивает на палец прядь волос. Лусиндита и Марианита застыли, как статуи.
– Он уже помылся и оделся с обычной тщательностью; не скажешь, что он провел тяжелую ночь в кресле. Однако к бутербродам он не притронулся, а сомнения и душевные страдания легли на лицо мертвенной бледностью, кругами под глазами и загорелись испуганным блеском глаз.
– Ты плохо себя чувствуешь, папи? Почему ты такой бледный?
– Нам надо поговорить, Уранита. Пойдем наверх, в твою комнату. Не хочу, чтобы прислуга нас слышала.
– Его хотят посадить в тюрьму, – подумала девочка.
– Он хочет сказать мне, чтобы я шла к дяде Анибалу и тете Аделине.
Они вошли в комнату, Урания бросила книжки на письменный столик и села на край кровати («под голубым покрывалом с диснеевскими зверушками»), а отец прислонился к окну.
– Ты для меня – все, я люблю тебя больше всего на свете, – улыбнулся он ей. – Ты – лучшее, что у меня есть. А с тех пор, как умерла мама, ты – единственное, что осталось у меня в жизни. Ты это понимаешь, доченька?