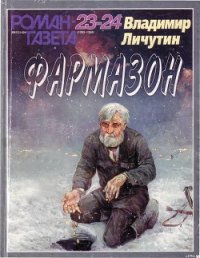Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Но старик был непреклонен:
– Нет, Алевтина... Это хорошие люди. Это мои дети. Мне с ними спокойно. А ты меня сведешь в могилу.
Катузов, обняв жену, вытянулся в струну, только в худом длинном горле нервно бегал кадык. Катузова трудно было чем-то смутить, и сейчас он лихорадочно просчитывал, что известно женщине и какие козыри у нее на руках.
– Успокойся, милая. Все без слов ясно. Ступай домой, проспись. Все утрясется. – Катузов почти ворковал, оттепливая взгляд, но обиднее сказать было невозможно.
– Вы... вы. – Губы у Алевтины тряслись. – Я вас выгоню поганой метлой. У меня друг в Думе. Я всю вашу банду выведу на чистую воду.
– Вот и тащи, милая, в Думу свою кровать. В Думе просторно, места с другом найдется довольно... А станешь бузить, вызову милицию. Три года за хулиганство и три за рукоприкладство... Выйдешь на волю уже старухой. – Катузов говорил надменно, с презрением всесильного человека, и в сталистом взгляде не читалось ничего хорошего. Скитаясь в партиях, он повидал много истеричек и знал, как привести их в чувство, окатить колодезной водою. – Иди, милая, не порть людям праздника. Завтра я позвоню, хорошо? Моя бутылочка, твой закусон... Тет-а-тет обсудим, и все будет о’кей.
Катузов ловко подхватил женщину за локоток, как подружку, и потянул к выходу. Щелкнул английский замок. Катузов вернулся, похохатывая, но смех был натянутый, дребезжащий.
– Кого еще будем ждать? Кто подарит нам поцелуй Иуды? – Катузов притянул к себе жену и снисходительно чмокнул в пушистую макушку, где смешно так торчал мальчишеский русый вихорок. – Профессор, с невестой вам на этот раз не повезло. Не тот случай... Кстати, хотите свежий анекдот?.. Стоят у подъезда две бабы. Одна жалуется: «Голова болит, сердце ноет, гастрит замучил, вены на ногах разбухли, ходить не могу, давление, в ушах шум...» – «Ага, – говорит другая. – У нее все болит. А кто вчера трех мужиков принял?..» – «Нет бы пожалеть, – отвечает. – Одно только место и не болит, а ты уже и позавидовала».
– Не понял, – поникшим голосом проскрипел Поликушка. В фасеточных глазах дрожпа розовая слеза.
Все засмеялись.
6
Марьюшка сгорела в какую-то неделю. Вышаяла, как головня. Осталась лишь становая кость, обтянутая задубевшей кожею, по которой невидимые выползки оставили свои следы, будто появились ночью, выпили последнюю кровь, затушили живые искры и тайно-скрылись.
Еще в канун Нового года Марьюшка прошептала потусторонним голосом, глядя в потолок:
– Маму видела... – И мысли своей не закончила, будто потеряла нить, не уведомив меня в главном: позвала ли мать за собою, де, пора, собирайся, зажилась уже, или сказала, де, поживи еше на земле. Я вглядывался в материны вылупившиеся из-под век глаза, какие-то неожиданно огромные, совсем незрячие, похожие на бездонные черные провалы, чтобы узнать продолжение сна, и не мог уловить ее видений.
– И что она сказала? – жалобным, по-детски плаксивым голосом спросил я, чувствуя, как замерзла кожа на голове и под редкими волосами поползли, ко-рябая, кусачие мураши.
– Паша, я умираю, – прошелестела Марьюшка, не поворачивая ко мне головы. – Ты не бойся. Смерть – хорошее дело.
Она устало затворила глаза, и на лице остались одни скулы, похожие на холодные камни-окатыши, и тонкая, как лезвие, прорезь рта, испятнанного лихорадкою. И больше ни слова не сронила, будто губы зашили веретенкой.
Я не поверил: разве может человек умереть не болея? Бред какой-то, честное слово. Искушенный ученый человек вдруг пропал во мне, остался лишь растерянный ребенок, боящийся остаться на белом свете сиротою... Да, я конечно же понимал, что смерть приходит в свой черед, но казалось, что колесница судьбы подхватывает кого-то иных, болезных, людей чужих, малознакомых, и телега с гробовщиком должна была необъяснимым образом миновать мою мать.
Я позвал священника. Отец Анатолий, сдобный, уютный, пахнущий морозцем, скоро пришел со своей кадильницей, возжег пахучие уголья, помахал, бренча цепями, прочитал по псалтыри канон, низко наклоняясь над Марьюшкой, словно бы запечатывая в своей памяти, чтобы знать, в каком обличье он спроваживает умирающую на тот берег, откуда нет возврату, потом помазал маслицем бережно, с ласкою во взоре, нисколько не гнушаясь безобразности увядания. Он словно бы начертал на челе Марьюшки те необходимые сопроводительные знаки, по которым Господь должен был распознать на небесах безгрешную душу. Марьюшка глубоко вздохнула, попыталась разомкнуть веки и не смогла, на щеках появился яркий румянец, а на впалом лбу проступила роса.
Священник вгляделся в старушку и сказал:
– Бывает, что соборуешь, а человек и на ноги встанет. Все в руках Божьих... И не болела, говоришь?
– И не болела, – подтвердил я, с надеждою вглядываясь в отца Анатолия, словно бы это мой давний друг ставил очередь на перевозе и мог отсрочить смерть. – Благослови, батюшка... – Отец Анатолий протянул мне пухлую ладонь с золотым перстнем, и я поцеловал ее с умильной радостью, будто принял целительного снадобья, потом ткнулся носом в душистую бороду, поелозил в чистой, воздушной шерсти, сронил в нее неожиданную слезу.
– Держись, дружочек. Не она первая и не она последняя... Что надо – зови.
Слезливая запруда вдруг встала в горле комом, будто набросили на шею удавку. Я добыл из нагрудного кармана комок денег, батюшка отстранился, слегка побагровел:
– Ты что, Паша, очнись... Нет и нет...
– На церковь... Бога ради... – Я с силою запихнул деньги в мягкую пригоршню, и батюшка смирился, ушел, оставляя за собою запах кадильницы. Марьюшка застонала.
Мать так истончилась, что кости, как шпангоуты прохудившейся лодки, теперь выпирали из кожи, и болезной стало тяжко лежать без движения даже в беспамятстве, словно ее положили на доску с гвоздями. Я повернул Марьюшку на бок, удивляясь ее худобе, ее изжитости, в ней не только не осталось мясов, но и каких-нибудь внутренних соков. Похожая на мумию, она так закорела в своем новом виде, что могла, наверное, сохраниться нетленно на века. Редко бывавшая в церкви, не знавшая святых житий и заветов монастырских старцев и монахов-отшельников, она удивительно верно приготовилась к последней дороге, чтобы излишней плотью не затруднять свой уход.
Я долго сидел возле, то придремывая, то испуганно выдираясь из забытья, словно боялся пропустить что-то важное: может, напутствие, иль заветное сокровенное слово, иль последний вздох. Но Марьюшка ровно посапывала, и я боялся ее потревожить: говорят, глубокий сон – к выздоровлению.
После соборования смерть постояла в изголовье, поскрипела пальцем по острому жалу косы и, пожалев христарадницу, тихохонько отлетела на ветровом сполохе в другой дом, где ее уже заждались. С этой надеждою я побрел к своему дивану, разобрал его, но лег не раздеваясь...
Мать шла росным цветистым лугом, сгребая босыми ногами водяную пыль, вспыхивающую мгновенными пестрыми огоньками, словно бы на пригнутых тяжелым бисером травах раскинули великое множество елочных гирлянд и сейчас то подключали их к небесной розетке, то гасили. Мать была полная, грудастая, молодая, с млечно-нежным лицом. Белая сорочка слегка приспустилась с левого плеча, в правой руке она несла крохотный узелок, наподобие банного, а за другую ладонь уцепился я, пацаненок, кудрявый, порывистый, и, спинывая с нахохленных султанов гроздья росы, постоянно заплетался ножонками и нарочно норовил окунуться с головою в эту парную водянину, по которой ровно скользили волны солнечного утреннего жара. Мать подхватывала меня и заливисто смеялась, я любовно озирал ее и видел с высоты своего роста ее красные, настеганные травою икры, будто нахлестанные банным веником, подол подоткнутой холщовой юбки и далеко-далеко – круто вздернутый к небу подбородок и полные сочные губы, откуда сыпался на меня, как горох, ее радостный смех. Оставляя за собою глубокие белесые следы, подошли к ровной черной реке, по которой плыли рваные клочья тумана. На другой стороне порою открывалась какая-то сизо-розовая гора с волнистым петушиным ожерельем над вершиною и вновь скрывалась в сиреневом слоистом дыму. Нет, это была не родная Суна-река, похожая на расплавленный серебряный слиток, и не домашняя Дивись-гора, ярко-красная от камня-орешника, густо поросшая по отрогам корявой лиственницей. Река текла чужая, пугающе темная, как асфальт, и почти недвижная. Сквозь туман по воде послышались хлопки, словно бы к нам продиралась лодка, и гребец утомленно шлепал лопастными. Но никто не показывался, как бы я ни выглядывал перевозчика. «Мне туда», – по-прежнему смеясь, сказала мама и показала на противный пустынный берег, на котором ничего не было, кроме голой розовой горы, похожей на причудливый небесный облак. «Мама, я с тобою!» – вдруг, чего-то испугавшись, закричал я, из последних сил цепляясь за ускользающие из моей горсти пальцы...