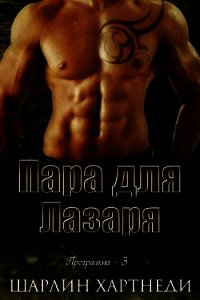Женщины Лазаря - Степнова Марина Львовна (читать книги онлайн без TXT) 📗
Они много гуляли вместе — по тем же улицам и перекресткам, по которым бродила когда-то молоденькая Галочка Баталова, держа за руку своего прекрасного сказочного принца, так что, хорошенько приглядевшись, все еще можно было увидеть то там, то тут слабо светящиеся отпечатки их бестолковых следов, но Лидочка, без остатка поглощенная Витковским, ничего, ничего не замечала. Глаза у него оказались синие. Синие-синие, невероятного, почти ненатурального оттенка, похожего на тот, что возникает в стакане с водой, в котором только что быстро прополоскали запачканную ультрамарином колонковую кисточку. Пронзительный энский холод то и дело загонял Лидочку с Витковским то в одну кафешку, то в другую, и в искусственной полутьме, освещенные общим огоньком на двоих раскуренной сигареты, они подолгу разговаривали, вернее, разговаривал Витковский — к тихой радости Лидочки, о себе, только о себе.
Она питалась этими рассказами, как дети питаются впервые услышанной сказкой, совсем еще новенькой, по-настоящему волшебной, в которой за каждым поворотом сюжета, за каждой паузой, которую рассказчик делал, чтобы перевести дыхание, вставал дивный, неизведанный мир, впечатывающийся, кажется, сразу в самое сердце. Оказывается, россказни про папу-дипломата, как и положено легендам, не столько приукрашали, сколько искажали чудесную действительность.
Витковский и впрямь перевелся в Энск из Москвы — случай в училище не то чтобы неслыханный, но и не уникальный. Три самых авторитетных хореографических школы страны — питерская Вагановка, московский МГАХ и Энск — ревниво следили за успехами друг друга и время от времени обменивались то скандалами, то педагогами, то учениками. Но выпускники вроде Алексея Витковского все-таки обычно стремились в Москву, а не из Москвы — поближе к заветному Большому театру, этой Мекке балетного мира, славной своими мизерными окладами, зверскими обрядами и классическим репертуаром, в котором десятилетиями не менялось ничего — ни примы, ни па, ни аплодисменты, ни свиные рыла государственных деятелей в царской ложе.
Однако Алексей Витковский бросил все эти заманчивые своды и перспективы и прибыл заканчивать свое балетно-хореографическое образование именно в Энск — в училище говорили, что вслед за отцом, крупным функционером, которого правящая в ту пору партия под названием «Наш дом — Россия» кинула грудью на дальние рубежи Родины, чтобы укрепить веру провинциального электората в «рыночные реформы и здоровый консерватизм». В реальности отец Витковского, сильно пьющий холерик и бывший секретарь одного из московских райкомов, так задолбал всех своими запоями и выкрутасами, что его попросту сослали с глаз долой и куда подальше.
Витковский, ничуть не стесняясь, рассказывал об этом с простодушной прямотой набалованного ребенка, уверенного, что ему простят любой скверный проступок, пусть даже совершенный родителями и потому особенно непоправимый.
А мама? Лидочка вскидывала огромные, переливающиеся сочувствием глаза. Витковский беспечно пожимал крепкими плечами — матери он не помнил, не то бросила их, не то умерла, пьяные истории отца отличались одна от другой, неизменными оставались лишь хриплые ненатуральные рыдания да лужицы остро воняющей блевотины, отмечающие путь партийного функционера к собственной спальне. Он был, кстати, неплохим отцом и, несмотря на ненависть ко всему балетному, предпочел добровольно отправиться не в солнечный Краснодар, а туда, где его сын мог продолжить свое идиотское образование.
— Ты, наверно, очень скучаешь? — тихо спрашивала Лидочка, имея в виду таинственно исчезнувшую мать любимого и переживая его сиротство в тысячу раз острее своего, давнего и привычного, как вывих, и Витковский невпопад соглашался — да, без Москвы погано, тут у вас, уж прости, такая жопа мира, что хоть давись. Он одним глотком допивал кофейную бурду, замаравшую дно чашки, и щегольским щелчком подзывал скучающего официанта.
— Отогрелась? — спрашивал он у Лидочки. — Еще что-нибудь хочешь, нет? Ну, тогда я в сортир, и погнали дальше.
Официант, волоча ноги, добирался наконец до их столика и, насмешливо ухмыляясь, наблюдал, как Лидочка с нежным, жадным обожанием глядя в удаляющуюся спину Витковского, слепой неловкой рукой лезет в сумочку за кошельком. Она всегда платила за них двоих в кафешках — и ни разу этого не заметила, как ни разу не заметила ни нагловатого, развязного тона, ни того, что Витковский, в сущности, ни разу не спросил ее ни о чем, что было бы связано с ней самой или с их совместным будущим, да он даже не дотронулся до нее ни разу, хотя Лидочка, с замирающим обнаженным сердцем, каждую минуту ждала поцелуя.
Они выходили на черную, ледяную улицу, едва освещенную тоже ледяным и ломким, почти леденцовым, фонарным светом.
— Ладно, старуха, — говорил Витковский, по-киношному поднимая воротник тоже киношного стеганого плаща на клетчатой яркой подкладке. — Пора и по домам. Ну, бывай!
— До завтра, — тихо говорила Лидочка, любуясь серебристой снежной пылью, едва касающейся его темных волос, и не думая о том, что ей сейчас предстоит одинокое возвращение в общежитие по извилистым, насквозь промороженным ночным улицам, — она действительно ничего не замечала: ни оплаченных счетов, ни того, что, в сущности, каждый день провожает Витковского домой, ни того, что он никак ее не называет — разве что старухой, ни еще тысячи ужасных, безжалостных мелочей, которые однозначно разорвали бы ей сердце, не будь оно временно одарено высокой и божественной слепотой, которую принято называть любовью.
Новый 1998 год Энск отметил невиданными погодными аномалиями. В конце декабря вдруг приключилась полноценная оттепель — с самыми настоящими болтливыми ручьями, неторопливой солнечной капелью и многоголосым гомоном обалдевших от радости воробьев. Но уже в первых числах января эти же воробьи десятками валялись на заледенелых тротуарах — мерзлые, хрупкие, скованные неторопливой, ночной, музыкальной смертью. Дворники, заточенные в циклопические тулупы, собирали невесомые тельца и бросали в мусорные баки, и Лидочке казалось, что, если тихонько потрясти маленького пернатого покойника над ухом, непременно услышишь, как звенят внутри обломки замерзших чирикающих трелей.
До «Жизели» оставалось всего несколько недель, если точнее — две с половиной, премьеру перенесли с 25 января на 1 февраля, и Лидочка, услышав долгожданную дату, только ахнула и, прижав ладонями полыхнувшие щеки, выбежала вон, оборвав репетицию на половине такта. «Нервы», — извинительно буркнула Большая Нинель, подбирая с пола оброненную Лидочкой шпильку, и принц Альберт, долговязый взрослый танцовщик из энского театра оперы и балета, напружинив ознобные перекачанные лыдки, недовольно отошел к окну.
— У всех нервы, — капризно протянул он, — у всех. Только я один должен пахать, как папа Карло. А жалованье, между прочим, с октября не выдавали!
— Мало денег — иди в грузчики, — отрезала Нинель, помнившая принца еще лопоухим учеником с прыщавым лбом и скверной выворотностью. — Тебя, мудака, может, только потому и запомнят, что ты с Лидкой эту премьеру станцевал… Она махнула толстой, усыпанной старческой «гречкой» рукой и, кряхтя, подошла к двери, за которой затихал дробный топоток сбежавшей Жизели. — И не стой столбом, занимайся. Барышников херов.
Лидочка нашлась в женском туалете на первом этаже — в этом излюбленном оазисе слез, горестей и сплетен многих поколений балетных учениц. Увидев Большую Нинель, она вскинула голову, торопливо вытерла глаза и осветила облупленный, пропахший сортир такой невероятной, сияющей, робкой улыбкой, что Нинель от неожиданности улыбнулась в ответ.
— Экая ты психованная все-таки, — прогудела она, доставая из кармана мятую пачку дешевеньких сигарет. — Давай-ка, покури и успокойся.
Лидочка, втягивая нежные щеки, наклонилась над бледным спичечным огоньком и благодарно закашлялась, осознавая оказанную ей огромную честь — курить с Нинель ее невозможную «Ватру», на равных, как взрослая со взрослой, как балерина с балериной.