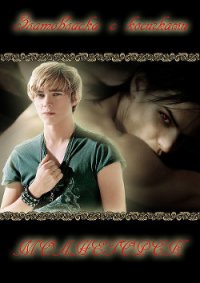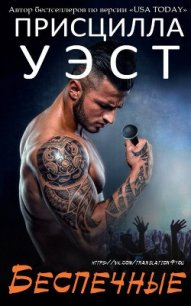Все поправимо: хроники частной жизни - Кабаков Александр Абрамович (книги онлайн бесплатно серия TXT) 📗
Сосредоточиться он не мог, его просто трясло от страха. Он сделал усилие, чтобы начать просчет вариантов — математическое образование, никогда не увлекавшее его всерьез, все пятерки получал только благодаря памяти и быстрой восприимчивости, в таких случаях выручало, включался навык построения логических схем.
Значит, первый вариант: Васильев поведет разговор жестко и сумеет дожать. Придется поступить, как Игорь советует… В этом случае все остальные проблемы, очевидно, решатся сами собой, дадут закончить университет, история с водолазками будет забыта, и даже на фарцовку — а как жить без нее, на какие деньги? — будут впредь смотреть сквозь пальцы…
Так, все ясно, отбрасываем.
Вторая возможность: удастся отбиться. Тогда остается неясным, что будет в университете…
Ладно, допустим, будет больничный, полковник Мажеев простит пропуски…
Но все равно главная проблема не решается — Васильев отдаст его настоящей милиции, начнется следствие… Даже если не посадят, то уж в университет сообщат обязательно, и тогда, вдобавок-то к прогулам, письмо из милиции положит всему конец, такого ни один деканат не выдержит…
В общем, или сдаваться, или — в самом лучшем случае — вылетать из университета. Вот и все варианты.
Хорошо. Предположим, исключили. Армия. Тоже возможны разные развития.
Допустим, знакомый тестя, тот полковник из министерства, сделает отсрочку. Кажется, даже есть такое правило — если маленький ребенок или беременная жена, отсрочка положена. Ну, положена не положена — лучше, конечно, если этот полковник действительно поможет. Ладно, отсрочка.
Тогда осенью можно будет восстановиться на последний курс… Ага, только черта с два восстановят. Если бы исключили за неуспеваемость, а то… Комсомольский выговор за идеологическую незрелость, злостная фарцовка, нахождение под следствием…
Хорошо, можно восстанавливаться через полтора года, полтора года прокрутиться так, поработать где-нибудь…
А что изменится? Только за это время точно посадят, потому что без фарцовки не проживешь, а за ним уже будут следить и обязательно посадят. И может ли быть отсрочка на полтора года?
Следовательно, армия. Так, что получается в этом случае. Ну, с Ниной все ясно, открепится от распределения, маленький ребенок, никто цепляться не будет, и уедет в Одессу. Там теща посидит с ребенком, а Нина найдет работу, не обязательно в школе…
А он уйдет в армию. Ужас… Три года. Нина, конечно, разведется с ним, и правильно сделает. Выйдет в Одессе с его ребенком замуж за какого-нибудь моряка или за аспиранта из кораблестроительного, там кавээнщики, юмористы, найдется кто-нибудь — с ребенком, зато красавица… И получится у нее семья точно, как у ее матери, и у ребенка будет отчим, как у нее…
А, идиот! Какая армия? А мать? Кто будет с матерью?
Он даже негромко охнул вслух, когда вспомнил о матери. Размышлял, называется, — все только о себе, скотина, какая же ты скотина!..
Мать. Может, есть правило, по которому не берут в армию, если надо ухаживать за инвалидом, у которого нет других родственников? И считается ли Нина родственником матери? Надо узнать… Киреев все может узнать, надо ему позвонить вечером, чтобы обязательно узнал…
Обдумывая варианты, он даже рисовал коротеньким сточенным красным карандашом на старой газете — то и другое валялось на подоконнике — кружочки и квадратики, вписывал в них «м.» и «Н.», соединял прямыми, закрашивал… Глянул на часы и пришел в ужас — пора было собираться к Васильеву. Все логические схемы вылетели из головы, вернулся страх, от которого сделалось пусто в животе, остановилось и лихорадочно заколотилось сердце, вспотели ладони. Он механически, не задумываясь, кое-как оделся — такого с ним не бывало, одевался он в любом случае старательно — и побрел переулками к милиции.
Васильев сидел за столом в том же синем костюмчике, в том же галстуке, даже рубашка была вроде бы та же самая, будто так и просидел в этой комнате неделю. На столе перед следователем — или кто он там был — лежала раскрытая папка из тонкого зеленого картона, картон пружинил, поэтому верхняя сторона папки стояла почти вертикально и белая тесемка болталась в воздухе.
— Присаживайтесь, — сказал Васильев небрежно, продолжая читать написанное на единственной страничке, вложенной в папку. Он сел на табуретку, не расстегивая пальто. — Можете курить…
Тон был сухой, будто это другой человек несколько часов назад говорил по телефону.
— Ну, товарищ Салтыков… — Васильев чуть нажал на «товарищ» и захлопнул наконец папку, и он с ужасом, хотя ожидал ведь этого, увидел на белой наклейке посередине папки крупно написанную канцелярским почерком свою фамилию. — Ну, товарищ Салтыков, будем решать наш вопрос или как? Или опять побежите в пивную с друзьями советоваться?
Глава четырнадцатая. Мать
Весь вечер и все следующее утро он опять вспоминал разговор с Васильевым и опять не мог вспомнить, как и в первый раз. Выплывали отдельные фразы, и вроде бы более или менее точно складывался итог, но восстановить всю последовательность не получалось. «Противопоставили себя комсомольской организации, всему студенческому коллективу… Вы что же, не понимаете, что искусство мы империалистам не отдадим?.. За американские тряпки готовы душу продать… Вы их друзьями считаете, а настоящие друзья вас предостеречь должны были… Надо решать, Салтыков, на чьей вы стороне, это не игрушки…»
Они знали все. Васильев так и сказал: «Это наша работа — знать о вас больше, чем, может, вы о себе знаете, это нам государство и поручило…»
Он не отвечал на вопросы, что он мог ответить, только пожимал плечами, но Васильев, похоже, ответов и не ждал. И придумать ничего уже было, конечно, нельзя, надо было или соглашаться, или прямо говорить «нет». Неожиданно сам Васильев предложил приемлемый выход, будто понял, что сейчас может услышать отказ.
— В общем, думаю, мы так поступим… — Васильев завязал белые тесемки папки, сбросил ее в средний ящик стола и ящик со стуком задвинул. — Будем считать, что предварительно мы с вами обо всем договорились. Идите, а через некоторое время мы вас снова вызовем. Если поймете, что действительно в ваших интересах, а что вам же во вред, поговорим, расскажете, как это время провели, поможете нам кое в чем… Тогда окончательно и будем делать вывод, можете вы принести пользу органам и государству или нам придется перестать вами заниматься — пусть вами комсомол серьезно займется, милиция и все, кому положено… Ну, идите пока, товарищ Салтыков, вам позвонят.
И теперь, когда он вспоминал вчерашний разговор, слово «органы» возникало прежде всего, и тут же все воспоминания путались, сбивались, и оставалось только это невыносимое слово.
Он сидел в дядипетиной комнате за маленьким письменным столом и тупо смотрел в черновик диплома, дописанного в общей тетради большого формата почти до половины. Он давно не открывал эту тетрадь и теперь уже плохо понимал текст, сокращения, стрелки, указывающие на формулы, сами формулы, переползающие со строчки на строчку, и небрежно нарисованные эпюры. Закрыв тетрадь, он сунул ее под стопку книг, лежавших на краю стола, глянул на обложку верхней. «Теория упругости»…
Из большой комнаты его окликнула мать — Нина уехала с утра в институт, потом собиралась зайти поболтать к подруге-однокурснице, родившей летом и сейчас сидевшей с ребенком в академическом. Он решил, что матери нужно дойти до уборной, перилами она так и не научилась толком пользоваться. Но мать сидела в кровати, высоко сдвинув подушки, и не собиралась вставать.
— Что, мам? — Он остановился возле кровати, мать протянула руку и пошевелила в воздухе пальцами, он подошел поближе и взял ее маленькую и до сих пор пухлую ладонь. — Ты встать хочешь?
— Нет. — Мать повернула к нему лицо, словно могла увидеть его. — Нет… Ты скоро уходишь?
— Пока не собираюсь, а что? — Он подвинул стул, сел рядом с кроватью. — Я до ухода тебя свожу…