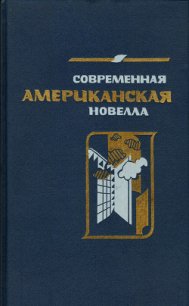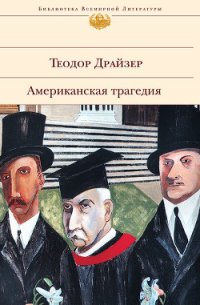Современная американская новелла. 70—80-е годы: Сборник. - Сароян Уильям (читать хорошую книгу TXT) 📗
Я помогла ей подняться, умыла ее, уложила в постель и, чтобы она не скатилась на пол, подоткнула со всех сторон одеяло.
— Бедная Дороти, — бормотала она. — Никто не любит старушку Дороти…
— Ну что ты, глупенькая, я люблю.
Но Дороти меня уже не слышала: она спала.
На следующее утро она появилась в черной шляпе и свежем платье, непривычно тихая и сговорчивая. Не вступая в объяснения, я помогла ей приготовить завтрак и тем самым стала ее сообщницей. Во всяком случае, у меня было именно такое чувство, потому что теперь каждый раз, когда родители уходили на весь вечер, Дотти напивалась перед своим телевизором до потери сознания, а я помогала ей перебираться из чулана на кровать.
— Смотри не ябедничай на меня, — шептала она, — ты не должна ябедничать на бедняжку Дот.
Я сдержала слово и до нынешнего дня никому не рассказывала о ее беде. А вчера она была такой хрупкой… Вернее, ее тело казалось ужасно худеньким и хрупким. Безмятежная, успокоенная, лежала она в затхлой гостиной в Эппинге, похожая на уснувшего щенка.
Хотя я никогда не рассказывала родителям про выпивки Дотти, они, должно быть, сами как-то обнаружили ее в чулане. Мама стала намекать, что я уже выросла и все такое и что ей, дескать, незачем дальше оставаться у нас.
У Дороти и в мыслях не было от нас уходить. Поэтому мама взяла все на себя: купила для Дот новый чемодан, повезла ее в магазин за тарелками, кастрюлями и другой кухонной утварью. Она откладывала часть ее жалованья, чтобы ей было что добавлять к пенсии. Словом, когда пришло время Дотти нас покинуть, она была абсолютно убеждена, что идея ухода принадлежит исключительно ей самой.
Мы устроили прощальный ужин. Она сидела во главе стола, на месте моего отца.
— Нам, конечно, будет вас не хватать, — сказала мама. — Я не могу поверить, что вы действительно уходите. Как мы будем обходиться без вашей помощи?
Перед едой Дот выпила рому, потом, за ужином, два бокала вина, потом еще коньяку под сырный пирог. Сначала выпитое не подействовало. Отец, которому, наверное, было за нее немного неловко, налил ей еще коньяку.
— Только смотри, старушка, — пытался он улыбнуться, — нам бы с тобой не набраться. — Он говорил это по-дружески, не зло.
Дороти сделала большой глоток и, оттолкнув бокал, откинулась на спинку стула. Ее большие влажные, всегда необычайно покорные глаза теперь блестели вызовом.
— Дот — пьяница, да? — сказала она слегка заплетающимся языком. — Что, не так? Вы ведь думаете, ваша Дот спивается. Да-да, думаете. Вы все. Да я могу прикончить этот коньяк да еще два раза по стольку и с рюмкой на голове прогуляться до самого Манчестера и обратно, что твоя леди, провалиться мне на этом месте! — И она рассмеялась, самодовольно и беззаботно. — Но лучше я сегодня буду хорошей, — сказала она вдруг по-детски. — Не хочу спать в чулане. Не надо сажать Дотти в чулан.
К этому моменту она уже качалась на стуле и, если бы не подлокотники, свалилась бы, наверное, на пол.
Отец дал мне знак убрать со стола.
Откуда ему было знать, что я уже много раз находила ее в таком вот состоянии, такую же радостную и веселую, такую же пьяную, лучезарно улыбающуюся мне с пола, между подолами своих форменных платьев. Откуда ему было знать, что ребенком ее запирали в чулане в наказание, иногда на целый день, и именно Диди тайком пробиралась к ней, утешала ее, приносила еду.
Мама налила кофе. Мне было грустно слышать, как Дот говорила:
— Куда я пойду? Понятное дело, буду жить у сестры. У кого же еще? — Диди живет в Эппинге, в полутора часах езды от нас, у нее там неуютная двухкомнатная квартирка в старом доме. — Но только мне там делать будет нечего, — сетовала она. — Я, конечно, стану готовить, но ведь она не ест ничего. И уборки особой нет. Там же грязи негде скопиться: слишком мало места. Так что очень даже хорошо, если вы иногда позовете меня помочь. Вот это как раз работа по мне. — Она раскачивалась из стороны в сторону, будто в трансе. — Скажите, миссис, а ведь мы с вами жили душа в душу, да? Бывало, я поставлю жаркое доходить на медленном огне, а вы уж тут как тут, да и включите плиту на полную катушку. А в девять, когда все как миленькие явятся к ужину, — мясо-то и сгорело! Все обуглилось. Ну, да чего там теперь говорить! Вы всегда недовольны были. Даже если мясо в самый раз, все равно недовольны. Хорошее было для меня времечко, я вам прямо скажу. Никогда не знаешь, что может случиться через минуту. Вот это, я понимаю, работа.
Житье у сестры в Эппинге изменило Дотти, приблизило ее старость. Как она ни старалась, застойный запах старого дома — запах запущенности и гнили — проникал в ее одежду. Она сметала и выбивала пыль, натирала полы, чистила и мыла все за двоих, но ничего не помогало. Запах этих комнат пропитал ее насквозь. И когда мама приглашала ее помочь с готовкой по случаю какого-нибудь торжества, Дотти и к нам в дом приносила этот своеобразный запах. Потом он долго держался у нас в кухне, хотя в семье никогда об этом не говорили. Я знала, что с этим ничего не поделаешь, и в общем, не обращала внимания. В конце концов, пока Дотти жила с нами, она, должно быть, и пахла так же, как мы, а теперь, когда ушла от нас, естественно, пахнет по-другому. И совсем не потому мама перестала звать Дороти помогать с угощением, как она мне это объяснила. Вовсе Дот не стала медлительной, и нескладной, и рассеянной — она всегда такая была. Вечно забывала подогреть суп; подавая на стол, роняла ложки и славилась среди маминых подруг тем, что у нее то и дело пропадали горшочки для жаркого. На самом деле мама окончательно рассталась с Дот потому, что та жила теперь в районе с открытыми сточными канавами, в отвратительном доме, вместе с сестрой-бездельницей, которая только и знала, что пить да ходить на скачки. Вот почему мама отказалась от услуг Дот. Сама Дотти здесь абсолютно ни при чем. Все дело было в Эппинге, в его застойном запахе; вот что, по мнению мамы, окончательно убило обаяние Дот — то обаяние, которое последнее время лишь на краткий миг проскальзывало в ее больших темных глазах и в ее голосе.
Меня мучает вопрос: а сложилась бы жизнь Дороти лучше, останься она у нас? Да нет, не думаю. Ей суждено было кончить дни свои именно так, как это случилось. Жизнь с нами могла бы, пожалуй, задержать перемену, происходившую с ней. Но только задержать, не более.
Когда я последний раз с ней виделась, волосы у нее уже совсем выпали, лицо опухло, лодыжки — тоже. Она стала очень походить на свою младшую сестру. Если не всем, то по крайней мере, полнотой и нетвердой походкой. Шляпу, напоминавшую рождественскую корзинку, она сменила на блестящий зеленый тюрбан, который закалывала спереди яркой стеклянной булавкой. И только ее глаза оставались прежними. Большие, подернутые влагой, они позволяли мне почти не замечать других перемен — ни ее великосветского тюрбана, ни опухшего лица, ни запаха.
— Не беспокойся, Луиза, — сказала она в ту последнюю нашу встречу. — Тебе совершенно нечего беспокоиться. Я тут живу очень хорошо. Куда лучше, чем я думала, ей-богу.
Она понимала, что к ним мне заходить не хочется, поэтому мы разговаривали на улице.
Я спросила Дотти, где ее сестра.
— Господи, да разве она бывает дома! Ты что, Диди не знаешь, с ее лошадьми, будь они прокляты! — Она засмеялась. — Ну и ну, хороша я, нечего сказать. Даже разговариваю, как она.
Зеленый тюрбан пьяно раскачивался у нее на голове, но смеялась она своим прежним смехом, резко и громко, совсем как на нашей кухне по воскресеньям, когда к ней приезжала сестра, и слезы бежали по ее щекам.
А вчера я ездила в Эппинг на похороны. Должна сказать, никогда не видела ее такой успокоенной, такой похожей на самое себя, такой удивительно умиротворенной. Там, в затхлой гостиной, она казалась спящей, как смирный щенок, которого Диди подобрала на улице, испуганного и голодного.
Андре Дабес
Раз-два, левой!
Он стоял в летних виргинских сумерках: девятнадцатилетний курсант в каске и форме морского пехотинца, с приставленной к ноге автоматической винтовкой М-1 и ранцем на спине, тугие лямки которого впивались в плечи; в строю он был последним — ростом не вышел. Перед построенным в две шеренги взводом негромко переговаривались лейтенант Свенсон, высокий, уверенный в себе офицер, и сержант артиллерии Хатауэй — приземистый крепыш с брюхом, которое нажил, по его словам, распивая вечерами пиво со своей «старухой». Сержант запросто мог весь взвод загнать до смерти. По крайней мере он заставил их в это поверить. У него были маленькие темные глазки, властный взгляд, в задумчивом настроении он хмурился, а в минуты отдыха уголки его узкогубого рта сползали вниз. Он закончил разговор с лейтенантом и повернулся к взводу. Они стояли на гребне невысокого холма, склон за спиной Хатауэя уходил во тьму долины, а дальше поднимался другой холм, поросший лесом, и черные деревья на его вершине касались макушками серого неба.