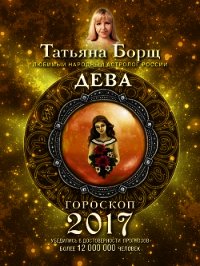Невидимая дева - Толстая Татьяна Никитична (книги онлайн без регистрации полностью .TXT) 📗
Обрывки этого эпоса доносились до моих ушей; Клавсевна деликатно шелестела, малышня что-то усваивала.
Сейчас, когда Ольги давно уже нет с нами, а мы прожили свои жизни и скоро уйдем за стекло, я позвонила брату Ивану в другую страну, чтобы спросить: а что это всё было? кто он был, этот Федор Кузьмич? откуда взялся, куда ушел? – но Иван не помнит. Был и был. Значит, опять только я, я одна – свидетель существования этих титанов и их полуразрушенных жилищ.
Мне было лет двенадцать, когда я сняла с полки тоненькую старую книжку и прочла эти стихи. Мне показалось, что они обращены ко мне: когда из книги говорят «ты помнишь?», то мне кажется, что да, я помню. Да, кажется, помню. Что-то такое припоминается. Я, правда, не знаю, что такое чепрак, и мне до сих пор лень узнать, но это, наверно, больше по вашей части, Николай Степанович, а горсть виноградин – это пусть будет мое. Я прочитала, и послушно вспомнила, и сразу дворец великанов представился мне Белым Домом, – ведь и белые колонны, и темно-зеленые изразцы, и гладкие серо-голубые балясины уходящей далеко вверх лестницы были в моем детстве исполинскими, а окно мансарды упиралось прямо в крону сосны, и шишки ее стучали в стекло на ветру, так что и до облачных впадин было совсем рукой подать.
Федор Кузьмич, очевидно, был из породы титанов, тех, кто населял землю едва ли не до появления человека, – великолепный житель Золотого Века, не равный, конечно, демиургу Дмитриеву, сотворившему наш мир по своей прихоти и увидевшему, что это хорошо, но сопоставимый с ним. О двенадцати подвигах Федора Кузьмича пели слепые аэды на пыльных и шумных торжищах, в тени камышовых навесов; ушлые люди показывали за маленькую денежку скалу, где ступала циклопическая, размером с кровать, нога Федора Кузьмича, отвесную стену, заросшую плющом, где Федор Кузьмич ткнул своим посохом – и заструилась сладкая вода. Вот тут Федор Кузьмич исцелял расслабленных, а вон там победил Минотавра. Радуга в небе, громовой удар снаряда на невидимом полигоне, два дерева-близнеца на дальнем, недосягаемом берегу, – все это были следы Федора Кузьмича, долго еще остававшиеся в этом мире, пока Золотой век не ушел – а я и не заметила, как это случилось, проморгала, – и на смену ему пришли Крында и Смякс.
Брат сказал мне, печальным телефонным голосом, что хорошо помнит: после Федора Кузьмича были Крында и Смякс. Да, ему тогда было пять, а Ольге шесть, да.
Так мельчают поколения, так вырождаются цари, так гибнут великие царства, и пески заносят Сфинкса по грудь, и там, где возвышались храмы, теперь лишь валяются и белеют колобашки колонн, зарастая по весне алыми маками.
Сестра Катерина родила троих детей и, как самая старшая и совестливая из нас – по ее же утверждению, – решила разгрузить маму, да и вообще дачу, хоть на один месяц: спали мы уже слоями, ели в две смены. Она нашла себе молодую няньку Тосю, девушку шестнадцати лет с носом тапира и оттого немного гугнивую; издалека было видно, что кадр туповатый и ненадежный, но Катерина любила смелые социальные эксперименты и верила в равенство всех живущих – поперек всякого здравого смысла. Она купила билеты на поезд до Феодосии: конечной целью любого из нас был Коктебель, имевший ценность не просто как пляж на море, но как место сакральное. Дед дружил с Максимилианом Волошиным еще в те дни, когда волошинский дом одиноко стоял на пустынном берегу, а у волошинского профиля, созданного рисунком скал на далеком мысу, еще не начал проваливаться нос; отец дружил со вдовой Волошина и всегда ночевал в мастерской; позже он сказал мне, что я была зачата в этой мастерской, под ликом царевны Таиах – ее желтоватая голова слепо и таинственно смотрела перед собой, и черты казались загадочными, потому что ну ничего не выражали. Тогда пахло полынью, вся трава уже выгорела. Невидимые цикады стригли жаркий воздух маленькими ножничками. Начало августа, и волны немолчно били о пустой берег.
Мы ездили туда уже в третьем поколении, Катерина везла четвертое. Мама немного волновалась, просила дать телеграмму, как доехали. На третий день после отъезда кто-то пошел в двойной сортир – он был занят. Через десять минут он все еще был занят, через двадцать – тоже. Мы пересчитали друг друга; все были на месте. Подождали еще и пошли дергать дверь, она была заперта изнутри. Папа сильно дернул ручку и взломал творение Курчавенького. Внутри, белая от страха и отчаяния, сидела нянька Тося.
– Что случилось? Где Катя? – закричали родители. Нянька не отвечала.
– Катя где? Дети где? Что случилось?!
Нянька только отмахивалась головой. Ее вытащили и повели в дом, поили чаем, испуганно напирая и тряся: что? Ну что?
Наконец она разжала стиснутые зубы:
– Прнь Брнь свл.
– Что?!
– Прнь Брнь свл.
Еще чай, еще тревожные крики, безумные мысли, предынфарктное состояние (отец: о-о-о, я больше не могу! немедленно говори!!! Мама, как обычно, хранила железное спокойствие). Наконец гласные звуки вернулись к девушке, и она, тяжко шевеля языком, произнесла:
– Парень в Брянске свёл.
Кого он свёл? Куда он свёл? Тут как раз принесли и телеграмму; почтальонша не решалась войти в калитку, так как собака Ясса хрипела от ненависти ко всем государевым людям: почтальонам, земельным инспекторам, солдатам и вообще любому, кто приходил по делу и в сапогах; папа оттащил разъяренную Яссу от ворот и забрал телеграмму; Катерина писала: НЯНЬКА БЕЖАЛА ГРУЗИНОМ ЗПТ ВСЕ ХОРОШО ЗПТ ЕДИМ ФРУКТЫ ТЧК.
Когда позже собрали вместе всю разрозненную мозаику, выяснилось, что вскоре после Калуги, еще прежде, чем воздух станет нежным, южным, томным и вместо вареной картошки и соленых огурцов бабы на станциях начнут совать в открытые окна вагонов семечки и горячую кукурузу, в поездах уже приступают к работе брачные аферисты. Красавец грузин, заломив соболиные брови и интенсивно горя горячими очами, привычно изобразил внезапную страсть, вспыхнувшую в его сердце к коротконогой, толстоносой Тосе, пообещал ей любовь до гроба и подарил лаковые туфли на каблуке. Пойдем со мной, и смерть нас не разлучит. Нянька кинулась к Катерине: в шатком купейном вагоне, между титаном с нечистым, железистым кипятком и грохочущим на стыках вагонным сортиром – вентиль запорный номер три и все такое, – вспыхнула любовь; вот так она и приходит, любовь; отпустите меня! Катерина попробовала остановить: не верь мужскому коварству, – но девушка так полюбила – до слез, – что даже похорошела, и Катерина, благословлявшая всякое чувство, отпустила.
Потом все случилось быстро, слишком быстро, по сценарию: грузин посадил няньку в зале ожидания Брянского вокзала, забрав все ее деньги, и лаковые туфли тоже: он должен купить им билеты до родного Сухуми; жди тут; она прождала его до ночи, прежде чем смириться с тем, что это всё. Это конец. Непонятно, почему она поехала к нам на дачу, как добралась без денег и зачем засела в сортире, съежившись от ужаса.
Потом долго вспоминали ее, говорили о ней: как она будет жить-то в этом мире, с такой наивностью. Как такие живут-то.
А как все остальные живут.
Пройти в прошлое легко: смотри перед собой и иди; заборов нет, замков нет, двери открываются и впускают тебя. Никакие цветы не отцвели; ягоды не знают сезонов, яблоки не падают с разросшихся, как сосны, яблонь, но достигают облачных впадин и превращаются там в виноград и звезды. Старик Доброклонский, искусствовед, выводит на прогулку своих четырех такс. Он тоже живет в Белом Доме – наверно, въехал после нас, потому что я вижу его с этой, с нашей стороны забора; нам уже не гулять, не играть в мячик на огромной, вытертой поляне, называемой «лысиной», а ему можно, он нагибается, отстегивает поводки, и дряхлые кривоногие таксы разбегаются по поляне; одна, с синеватыми бельмами на старческих глазах, ковыляет ко мне и тявкает на меня с той стороны проволочной сетки. Ясса, запертая в доме, от возмущения извелась, колотится в окно, охрипла: как смеют??? как смеют??? Мама идет на озеро с ведрами, Доброклонский приветствует ее – доброкланяется, – приподнимает черную академическую шапочку. Мама говорит: он был другом Бенуа и Яремича, он был директором Эрмитажа. Папа говорит: на войне он потерял обоих сыновей.