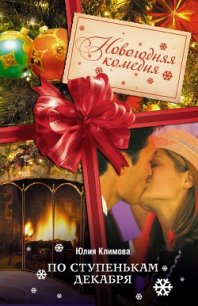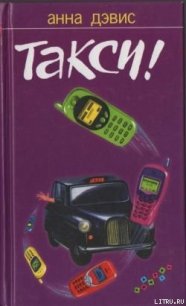Глазами клоуна - Бёлль Генрих (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗
– По-моему, стихи чудесные!
Весь класс захохотал, только отец Цюпфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. По-моему, он был славный, только немного суховат. С сыном я тоже был знаком мало, не больше, чем с отцом. Один раз я проходил мимо спортивной площадки, он там играл в футбол со своей группой из молодежного союза, и, когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул:
– Хочешь поиграть с нами?
И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюпфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал:
– Хочешь пойти с нами? Я спросил:
– Куда?
И он сказал:
– На вечер нашего кружка. А я сказал:
– Но ведь я вовсе не католик.
И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюпфнер сказал:
– Мы поем хором, а ты, наверно, любишь петь?
– Люблю, – сказал я, – но эти кружки мне осточертели: ведь я два года проторчал в интернате.
И хотя Цюпфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал:
– Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол.
Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, но на вечеринки он меня больше не приглашал. Я знал, что в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой, и знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал V ее отца, а иногда ходил по вечерам на спортивную площадку, где она со своими девчонками играла в мяч, и смотрел на них. Вернее сказать, на нее, и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а я кивал ей в ответ и тоже улыбался: мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца, иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюпфнером, меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В двадцать один год я ушел из последнего класса католической школы. Патеры держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами, с сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера: «Католический проповедник», «Проповедник-протестант», «Рабочий в день получки», – показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес: «Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является необходимой предпосылкой для спасения души». Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту, а отец все допытывался, кем же я хочу стать, и я сказал:
– Клоуном. Он сказал:
– Ты хочешь стать актером? Хорошо, может быть, я смогу устроить тебя в школу.
– Нет, – сказал я, – не актером, а клоуном, и школы мне ни к чему.
– То есть как же ты себе это представляешь? – спросил он.
– Никак, – сказал я, – никак. Я просто уйду от вас…
Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дому, и при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы, но для нее это были «художники и поэты»: и Шницлер, этот пошляк, и Грубер – хотя он-то был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик пролил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнаружить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Что-то было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу замусоленных детективных романов, а на письменном столе какие-то записочки, где было только одно слово: «Ничто», а на одной два раза: «Ничто, ничто». И ради таких людей моя мать даже спускалась в погреб, доставали особый кусок ветчины. Мне кажется, что, если бы я завел себе гигантские подрамники и стал размазывать всякую чепуху на гигантских холстах, она даже могла бы примириться с моим существованием. Тогда она могла бы говорить: «Наш Ганс – художник, он найдет свою дорогу. Теперь в нем еще происходит борьба». А так я был просто перезрелый недоучка, про которого она знала только, что «он неплохо показывает всякие трюки». Конечно, я упирался и не желал за какую-то жратву «проявлять свой талант» для них. Поэтому я и проводил целые дни у отца Мари, старика Деркума, помогал ему немножко в лавке, а он за это дарил мне сигареты, хотя они и сами нуждались. Я сидел дома всего два месяца, но они тянулись, как вечность, гораздо дольше, чем война. Мари я видел редко, она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости и занималась со своими одноклассницами. Иногда старик Деркум ловил меня на том, что я его совсем не слушаю и не свожу глаз с кухонной двери, он качал головой и говорил: «Она сегодня вернется поздно». А я краснел.
Была пятница, и я знал, что старик Деркум по пятницам ходит на вечерний сеанс в кино, но я не знал, будет ли Мари дома или останется зубрить у подруги. Я не думал ни о чем и вместе с тем обо всем, даже о том, сможет ли она «после этого» сдать экзамен на аттестат зрелости; но уже тогда я предвидел: весь Бонн будет не только возмущаться тем, что я ее соблазнил, но и прибавлять: «И перед самыми выпускными экзаменами!» Я даже думал о девчонках из ее группы, для которых это будет ужасным разочарованием. Я смертельно боялся того, что в интернате один мальчик как-то назвал «телесными проявлениями», и вопрос о потенции меня немало беспокоил. Самым неожиданным для меня было то, что я не испытывал ни малейшего «плотского вожделения». Думал я и о том, что нечестно с моей стороны проникнуть в дом, в комнату Мари с помощью ключа, который дал мне ее отец, но иначе я никак это сделать не мог. Единственное окно в комнате Мари выходило на улицу, а там до двух ночи царило такое оживление, что меня немедленно отправили бы в участок, а я должен был сегодня же быть с Мари. Я даже пошел в аптеку и купил на деньги, взятые у брата Лео, снадобье, про которое в школе говорили, будто оно повышает мужскую силу. Я покраснел как рак, когда очутился в аптеке, к счастью, подошел продавец, а не продавщица, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал, чтобы я «громко и внятно» сказал, что мне нужно, и я назвал препарат, получил коробку и расплатился с женой аптекаря, которая посмотрела на меня и покачала головой. Конечно, она меня знала, и, когда она на следующее утро услышала, что произошло, она, наверно, подумала совсем не то, что было на самом деле, потому что через два квартала я открыл коробочку и вытряхнул все пилюли в водосточный желоб.
В семь часов, когда начался сеанс в кино, я пошел на Гуденауггассе, сжимая ключ в руке, но двери лавки еще были открыты, и, когда я вошел, Мари выглянула сверху с площадки и крикнула:
– Алло, кто там?
– Это я! – крикнул я и взбежал по лестнице, а она посмотрела на меня с изумлением, когда я, не прикасаясь к ней, медленно оттеснил ее назад, в ее комнату.
Нам с ней мало приходилось разговаривать, мы только всегда смотрели друг на друга и улыбались, и я не знал, как мне к ней обращаться – на «вы» или на «ты». На ней был старый, потертый купальный халат, доставшийся ей после смерти матери, темные полосы перевязаны зеленым шнурком; позже, когда я развязывал мот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить: она сразу поняла, зачем я пришел.
– Уходи, – сказала она, но сказала машинально, я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и, когда она сказала «уходи», а не «уходите», все было решено. В этом маленьком слове таилось столько нежности, что я подумал: ее хватит на всю жизнь, – и чуть не расплакался. Это слово было так сказано, что я понял: она знала, что я приду, во всяком случае, она совсем не удивилась.
– Нет, нет, – сказал я, – я не уйду, куда же мне идти? Она покачала головой.