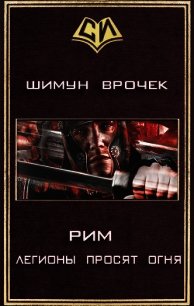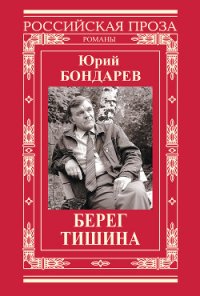Батальоны просят огня - Бондарев Юрий Васильевич (читаем книги txt) 📗
– Нет, – ответила она и медленно покачала головой. – Нет. И не будет. От тебя не будет.
– А я бы хотел. – Он улыбнулся. – Интересно, какая ты мать. И жена... Ну, хватит слез. В госпитале я тебе не изменял. Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал. Поцелуй меня.
Шура стояла, прислонясь затылком к сосне.
– Ну, поцелуй же, – настойчиво попросил он. – Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!
– Приказываешь? Да? – безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, однако он, не отпуская, уверенно обвил их вокруг своей шеи.
– Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.
– А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!
– Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя...
Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к нему, слабо придавилась грудью к его груди, подняла лицо. Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.
«Опять, все опять началось», – подумала Шура с тоской, когда они шли к батарее.
Ермаков говорил ей устало:
– Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь?
«Нет, я не верю, – думала Шура, – но я виновата, виновата сама... Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он тоже не верит... Все временно, все ненадежно... Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне как вообще к любой женщине, ни разу не сказал серьезно, что любит. Только однажды сказал, что самое лучшее, что создала природа, – это женщина... мать... жена... Жена!.. Полевая, походная... А если ребенок? Здесь ребенок?»
Злые, внезапные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание.
А он в это время, сильно прижимая ее плечо к своему, спросил обеспокоенно:
– Ну, почему молчишь?
Тогда она ответила, сглотнув слезы:
– В батарею пришли.
В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями снарядные ящики. Силуэт часового не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.
– Там, у ящиков! Часовой! – окликнул Ермаков. – Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!
Круглая фигура часового затопталась, задвигалась, и тут же ответил обнадеживающий голос Скляра:
– Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Все в порядке.
– Так уж все в порядке? – сказал Ермаков, поглядев на скользящий по кромке берега голубой луч прожектора. – Немцы жизни не дают, а ты – «в порядке»...
– Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег – назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров... А если опять искупают?
– Позови Кондратьева, – приказал Ермаков.
– А он старшину с ездовыми к саперам повел.
– Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука, – насмешливо сказал Ермаков. – Пошли, Шура, к ним.
– Куда? – Шура стояла, опустив подбородок в воротник шинели.
– К саперам.
– Не надо этого. Не надо! – неожиданно страстно попросила она. – Зачем тебе?
Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то влияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слез, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полушутливо, не заботясь, что подумает об этом Скляр:
– Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? – нагнулся, отцепил шпоры, небрежно кинул их на снарядный ящик. – Спрячь, Скляр.
– Это уж верно, демаскируют, – согласился Скляр. – Ни к чему. А мне как, товарищ капитан? К вам опять в ординарцы? Или как?
С дороги, гудевшей сквозь ветер отдаленным движением, голосами, внезапно вспыхнули, приближаясь, покачиваясь на стволах сосен, полосы света.
Скляр сорвался с места, суматошно крича:
– Стой! Гаси свет! Куда прешь? Не видишь – батарея? Гаси фары, говорят!
Фары погасли.
– А мне батарею и не нужно, не голоси, ради Бога! Вконец испугал, колени трясутся. Мне капитана Ермакова.
Низкий «виллис», врезаясь в кусты, затормозил, и по невозмутимому голосу, затем по легким шагам Ермаков узнал Витьковского.
– Ты? Что привез?
– Я, – ответил Жорка, весь приятно пропахший бензином, и что-то сунул в руку капитана. – Скушайте галетку. Великолепная, немецкая. Вас срочно в штаб дивизии. Иверзев вызывает...
– Иверзев?
– Ага. – Жорка потянул Ермакова за рукав, дыша мятной галеткой, зашептал: – Тут вроде форсировать не будут. Что-то затевается. Вроде Володи. Вас – срочно. Скушайте галетку-то...
– Галетку? – задумчиво спросил Ермаков. – А много у тебя этих галеток?
Жорка обрадовано ответил:
– Да полмешка, должно. В машине с запчастями вожу. Чтоб полковник не заметил. Он что увидит – р-раз! – и за борт. И чертей на голову. В Сумах на немецких складах взял.
– Давай сюда, аристократ. Выкладывай мешок на ящики. Скляр, отнеси ребятам конфискованное...
Он подошел к Шуре, пристально взглянул в белеющее лицо и не увидел, а угадал затаенную не то тревогу, не то радость по выгнутым ее бровям.
– Что? – спросила она шепотом.
– Еду. Передай Кондратьеву. И пусть не щеголяет интеллигентностью. – И чересчур поспешно, холодно поцеловал, едва прикоснулся к губам ее. Она чувствовала тающий холодок его поцелуя и ревниво и мстительно говорила самой себе: «Уже не нужна ему. Нет, не нужна».
А он, садясь в «виллис», спросил:
– Может, со мной поедешь?
– Нет, Борис. Нет...
– Ограбили! – сказал Жорка и засмеялся.
«Виллис» тронулся, затрещали кусты. Шура, опершись рукой на снарядный ящик, смотрела в потемки, где трассирующей пулей стремительно уносился рубиновый огонек машины, и с тоскливой горечью думала: «Ограбили. Это он обо мне сказал».
Глава четвертая
В этом маленьком селе тылы дивизии смешались с полковыми тылами, – все было забито штабными машинами, санитарными и хозяйственными повозками, дымящими кухнями, распространявшими в осеннем воздухе запах теплого варева, заседланными лошадьми полковой разведки, дивизионных связных и ординарцев. Все это в три часа ночи не спало и жило особой, лихорадочно возбужденной жизнью, какая бывает обычно во время внезапно прекратившегося наступления.
Круто объезжая тяжелые тягачи, прицепленные к ним орудия, темные, замаскированные еловыми ветвями танки, Жорка вывел наконец машину на середину улицы, повернул в заросший наглухо переулок. «Виллис» вкатил под деревья, как в шалаш; сквозь ветви уютно светились красные щели ставен. Жорка, соскакивая на дорогу, сказал:
– Полковник сперва к себе велел завезти. Свои, свои в доску! – отозвался он весело на окрик часового у крыльца. – Чего голосишь – людей пугаешь?
Ермаков взбежал по ступеням и, разминая ноги, вошел в первую половину хаты, прищурился после тьмы. Пахнуло каленым запахом семечек, хлебом. На столе в полный огонь горела трехлинейная керосиновая лампа с вычищенным стеклом, освещая аккуратно выбеленную комнату, просторную печь, вышитые рушники под тускло теплившимися образами в углу. Сияя изумленной радостью, от стола услужливо привскочил, оправляя гимнастерку, полковой писарь, и начищенная до серебристого мерцания медаль «За боевые заслуги» мотнулась на его груди.
– Товарищ капитан! Здравия желаю! – взволнованной хрипотцой пропел он, вытянулся, а правую, измазанную чернилами ладошку суетливо вытер о бок. – Из госпиталя? К нам?
– Привет, Вася! Жив? – ответил Ермаков и не без интереса заметил возле печи незнакомого солдата, который позевывал и с задумчивым видом поигрывал новеньким парабеллумом. Крепко сбитый в плечах, был он в офицерских яловых сапогах, в суконной гимнастерке, на ремне лакировано блестела расстегнутая немецкая кобура.
– Разведчик? – спросил Ермаков, слыша приглушенные голоса из другой половины. – «Языков» привели?