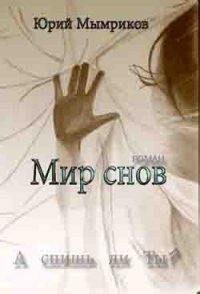Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
В ту же ночь мы сумели передать к ним в бараки остатки своих пайков, белье, одежду, одеяла – все, что смогли собрать».
И подпись: «Макс Реслер».
Ронкин, увидев, что я дочитал, крикнул:
– Вот в этом транспорте и я был. Мы ночью, когда получили одеяльца и все такое, – что вы! – это же не просто слабых спасло, для всех – счастье: не одни, значит! Не пропадем!
Он улыбался весело. И глаза, посветлевшие на закатном, неярком солнце, тоже были веселые.
Чему ж тут так веселиться?.. Тому, что остался жив?..
Нет, что-то еще было в его улыбке, в том, как смотрел он на эти аккуратно наклеенные на белую плотную бумагу книжные страницы.
Еще бы не беречь их! – они ему сохранили ту ночь, и пайку хлеба, переданную незнакомцем, и тепло ветхих одеял… Шел дождь, и пленные намокли – три километра от станции под дождем, – никак не могли согреться, каждый – в своей норе.
Я спросил:
– Что такое «Зеебад»?
– Название лагеря нашего. А в переводе – «Морской курорт», – он усмехнулся.
Я перевернул тетрадную страничку, на нее был наклеен рисунок: рука тянется к колючей проволоке. Он был сделан на иной, толстой бумаге, видимо
– клочок обоев, неровно оборванный, выцветший. Рука согнута в локте, немощная, высохшая, пальцы с распухшими суставами сведены в судороге. Я хотел было читать дальше, но что-то остановило мой взгляд. Кожа руки обвисла складками, совсем мертвая. Но карандашные штрихи были так тонки, что сквозь них, как бы изнутри, пробивался этот желтоватый, чуть мерцающий цвет – свет? – ветхой бумаги, – рука была живая! Художник явно сознательно использовал фактуру рыхлой бумаги, и если вглядеться, черно-белый рисунок становился цветным.
Едва теплилась жизнь, подспудно, но именно потому она и казалась необоримой. Ясно было: руку в ее последнем движенье не остановить, она дотянется до проволоки, до ее пучков, прорисованных, наоборот, жирно, размашисто, и пальцы, набухшие яростью, просто сомнут, порвут проволоку, такую прочную с виду.
Мастерский рисунок. А всего-то – на половину тетрадной страницы. Но мне надо было читать дальше. На следующем листке сверху была сделана надпись чернилами, вряд ли – рукою Ронкина, уж очень корявый почерк: «Доктор Микулаш Нижли, венгр, прожил в крематории полгода». Я читал, распахнув телогрейку, прикрыв ею листки от ветра.
«В газовой камере крематория лежит груда тел, в которой более двух сотен трупов. Члены зондеркоманды разбирают эту груду. Стук дверей лифтов я слышу даже в своей комнате. Зондеркоманда спешит. Газовая камера должна быть освобождена быстро. Скоро прибудет новый эшелон.
В мою комнату врывается взволнованный капо зондеркоманды и рассказывает: «При разборке груды трупов в самом низу нашли женщину, которая еще жива!»
Я хватаю свою медицинскую сумку и бегу в газовую камеру. У двери вижу извивающееся в судорогах тело девушки. Она хрипит. Заключенные из зондеркоманды стоят кругом в растерянности. Такого в их практике еще не было. Мы вытаскиваем ее из груды трупов, потом относим легкое тело девушки в соседнюю комнату. Теперь я вижу, что это девушка лет пятнадцати, еще совсем ребенок. Я кладу ее на лавку и делаю сразу же три инъекции. После этого прикрываю пиджаком ее ледяное тело.
Один из заключенных бежит в кухню за горячим чаем или похлебкой, каждый старается помочь, будто речь идет о его собственном ребенке. Наши усилия увенчиваются успехом! Приступ кашля сопровождается ядовитыми выделениями из легких. Девочка открывает глаза и бессмысленно смотрит на нас. Мы наблюдаем у нее…»
Тут страничка кончилась, и текст переходил на вторую, так же бережно подклеенную:
«…первое проявление жизни. Дыхание становится глубже, отравленные газом легкие жадно хватают воздух, под влиянием инъекции устанавливается пульс.
Я терпеливо жду. Через несколько минут девушка придет в сознание. И действительно, ее нежное лицо розовеет, в глазах появляется выражение. Она удивленно осматривается по сторонам, не понимая, что с ней происходит.
Ее движения становятся быстрее, она поднимает голову, руки, по лицу пробегает судорога. Она пытается сесть, у нее начинается нервный припадок, но постепенно она успокаивается и лежит неподвижно. В глазах ее слезы, но она не плачет. Я задаю ей вопросы и узнаю, что девочке 16 лет и она приехала сюда вместе с родителями.
Мы все лихорадочно думаем: что же делать с ребенком? Мы знаем, что долго она здесь оставаться не может. Из крематория живым еще никто не выбирался.
На размышления нам остается совсем немного времени.
Действительно, в комнату входит обершарфюрер Муссфельд. Я прошу всех остальных выйти. Я хочу попытаться сделать невозможное. За три месяца пребывания под одной крышей у нас с Муссфельдом установились определенные отношения. Иногда он заходит в прозекторскую и разговаривает со мной. Я рассказываю ему о случае с девушкой, пережившей ужасы газовой камеры.
Девочка, конечно, наглоталась газа, но упала на пол так, что прижалась ртом к нему в том месте, где он был влажным. Это спасло ее, так как влага нейтрализует действие газа.
Я просил Муссфельда оставить девушку в живых.
Он серьезно выслушал меня и спросил, что я могу предложить.
«Я думаю, – сказал я, – что девочку можно было бы отвести к воротам, за которыми всегда работает команда женщин. Она может смешаться с толпой женщин и вечером вместе с ними вернуться в лагерь. А там столько народу, что ее никто и не заметит».
Муссфельд высказывает предположение, что шестнадцатилетняя девушка по своей наивности наверняка расскажет кому-нибудь о том, что она пережила. А это может быть чревато для нас опасностью. Нет, говорит он, девочку нельзя оставить в живых. Через пятнадцать минут ее отвели, вернее отнесли в котельную и там застрелили».
Я повернул лист бумаги и на свету попытался прочесть через него, что там дальше, на обратной стороне книжной страницы.
Ронкин сказал:
– Там уже другой рассказ.
Я промолчал: в тот миг просто не мог говорить. Но минутой позже, прежде чем вернуть тетрадь, я пролистал ее и увидел еще рисунок. На той же рыхлой, старой бумаге. Так же мало подробностей. Наискось стоит бетонная глухая стена, а за ней верхушки высоких лип и у горизонта – холмы.
Рисунок опять карандашом, одним лишь черным карандашом, но я увидел, кажется, и синеву неба, и зелень листьев, дальних холмов. А главное, в круговерти ветвей, листьев, пригорбков, уходящих в даль немыслимую, в ритме света и тени было столько воли, игры, свободы! Обрубленной этим тупым обрезом стены.
Не тоска – отчаянье было в рисунке.
Ничего не сказав, я протянул тетрадь Ронкину. И он молчал.
Солнце зашло за громадную тучу, повисшую далеко над лесом, и небо вылиняло. Я показал на тучу, спросил:
– Дождя не будет?
– Нет. Ишь она вытянулась как. Прилегла на землю, – там и рассосется.
– Чьи это рисунки в тетради?
– Попал к нам в лагерь художник. Ленинградец.
По фамилии Корсаков. Умер сразу после освобождения.
В госпитале.
– Так это в лагере нарисовано?.. Талантливый человек!
– Там… Наверно, надо было больше смелости иметь, чем таланта, чтобы там рисовать, – он говорил неокрашенно. – И хранить… Впрочем, хранили-то многие.
Вот и я в том числе. Заставляли думать рисуночки. Тут правило для всех: выживали за счет мысли, – потому и хранили, прятали листки эти под робой, или в матрацах, или за досточкой в пристенке. Их трудно было выбрасывать.
– Так и еще остались?
– Должны остаться. А где?.. Не соберешь.
– Но как же самого-то Корсакова не сберегли?
Ронкин взглянул на меня с досадой и отвернулся, промолчав.
Справа, в распадке, в самой низине его и по склонам сопок, открылась березовая роща, – березы, одна к одной, ровные, листва облетела, и оттого белизна стволов – заметнее; казалось, даже воздух, вобравший в себя солнечный свет, погасший, но еще не умерший, и блики от коры березовой, перемежающиеся, живые, – казалось, сам воздух этот струится шаткою белизной.