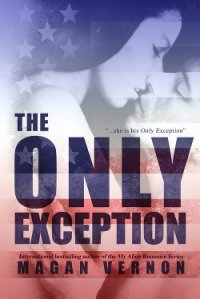Саммер - Саболо Моника (читать книги txt) 📗
А иногда, по ночам, он возникал у меня в спальне, словно герой из фильма. Садился на краешек кровати, массировал мне шею или проводил большой ладонью по моим волосам, — и тогда мне становилось хорошо и спокойно. Я утихомиривался, хотя он никогда надолго не задерживался и называл меня «малой» — верно, из-за того, что я был тощим, неуклюжим и из-за всего постоянно переживал. А отец был сильным и умным, уверенным в себе и очень спортивным. Он входил в гостиную — и становился центром притяжения. Женщины краснели, а мужчины искали его одобрения — не знаю почему. Наверное, мощь отца и его прекрасно поставленный голос убеждали всех в том, что он всегда поступает правильно. По крайней мере, мне казалось, что иначе и быть не может. Я всегда мучительно хотел ему понравиться, хотел, чтобы он меня похвалил.
Кабинет отца, куда мы с сестрой почти никогда не заходим, украшают его фотопортрет в адвокатской тоге и вырезка из женевской газеты «Трибуна» с заголовком «Маэстро на защите». На полках полно книг, черных толстых папок с загадочными надписями и страшных предметов типа африканских статуэток и марокканского ножа. Иногда мама с папой закрываются в этом кабинете, а я прокрадываюсь к двери и прикладываю к ней ухо. Саммер замечает меня и замирает вдалеке, возле своей комнаты, как вкопанная, глаза ее полны тревоги. Она очень осторожна, и мысль о том, что все откроется, приводит ее в ужас. А я слушаю их голоса: папа говорит тихо и быстро, мама почти ничего не отвечает — иногда я спрашиваю себя, чем она там занимается и там ли она вообще. В кабинете родители говорят о том, чего нам знать не следует; порой я слышу свое имя, и у меня непроизвольно начинает дергаться левое плечо — это происходит все чаще, — а иногда я быстро-быстро шевелю бровями.
Мне казалось, что я опять стою под дверью, за которой прятали печали и тайны моей семьи, а может, и всего человечества: разочарование матерей с красной помадой на губах, лукавство отцов, ведущих двойную жизнь, секреты юных девиц, наглухо запертые за их ярко-накрашенными глазами или в дневниках, которые они прижимают к сердцу. Только теперь мы подслушиваем вместе с доктором Траубом — так и представляю, как он в ванной торопливо наносит на волосы аптечное средство от облысения, — и до нас доносятся шепот и далекий жалобный смех.
Однажды я заметил, что доктор Трауб выходит из супермаркета на той же улице, где находился его кабинет. Он нес пакет, смотрел прямо перед собой. Издалека доктор выглядел как один из тех мужчин среднего возраста, за застенчивостью которых скрывается отсутствие сексуальной жизни: розовое лицо, коротковатые руки, бесформенная куртка, светлые подернутые брюки. Его вид напомнил мне одного типа, что однажды вечером притормозил в Старом городе у тротуара, по которому шли и курили Саммер с Джил. Я увидел издалека, как опустилось стекло, Джил наклонилась к машине, ее темные волосы опустились на лицо. Потом машина сорвалась с места, а девчонки захихикали, прикрывая рты ладонями.
«Он принял нас за проституток! Представляешь?» — сказала мне сестра, и я помню, как дрожал от возбуждения ее голос, как взвизгивала Джил, как у них блестели глаза.
И потому теперь, провожая глазами доктора Трауба, я засмеялся коротким жестким смешком. На что же мы с ним надеялись, просиживая часы и дни в его потрепанном кабинете на кожаных креслах, поскрипывающих под нашим весом, — я ничего уже не соображал из-за лекарств и травки, а он все больше лысел? Разве по силам нам было разгадать женщин? Мы пытались расшифровать сигналы, долетавшие с далекого берега, с дикого пляжа, до которого нам никогда не добраться, и терпели неудачу.
Доктор Трауб привычным жестом, который, наверное, отточил за долгие годы, протянул мне бумажные носовые платки. Он смотрел поверх моей головы — может, с грустью размышлял о мире, в котором юные женщины обращаются в пыль, что рассыпается в небесах, или думал о своей жене, которая никуда не уходила, а он бы так этого хотел, хотел бы однажды утром обнаружить у кровати ее пустую светло-розовую ночную рубашку, этакую лужу из ткани, в которой она растворилась.
Розовощекое задумчивое личико доктора Трауба, цвет которого напоминал мне магазинную ветчину, висело передо мной, пока я вытирал слезы, и я снова начал смеяться — я же стал психом.
Саммер сидит на кухне у семьи Савиозов, на ней желтая водолазка. Она пьет овоматин.[9] Ей одиннадцать, может, двенадцать лет. Марина Савиоз стоит на цыпочках и ищет в шкафчике над нашими головами печенье; она в облегающем льняном платье, слишком облегающем, я не могу смотреть на нее, не могу, чувствую, как горит внизу живота, словно там бьется переполненное кровью сердце.
— Я хотела бы тут жить, — говорит Саммер.
Я, в ярости, в шоке, поднимаю глаза и смотрю на нее, и слышу, как растроганно (смущенно?) смеется Марина.
Летом, когда Саммер пропала, я смутно надеялся, что она укрылась у Савиозов. Иногда я представлял, как она купается в их бассейне — скользит под водой среди листьев и насекомых, которые перебирают лапками по поверхности. Бассейн был вырыт в глубине одичавшего сада — мне так и не удалось понять, почему их дом, окруженный разросшимися деревьями, был таким запущенным: то ли потому, что они хипповали, то ли просто сдались под напором времени и погоды. Саммер обожала их бассейн, она надевала висевшие на ней, словно какие-нибудь хламиды, купальники Марины и без устали ныряла. Мне больше нравилось играть в саду или читать комиксы на веранде, пропахшей одновременно сыростью и пылью.
Иногда старший сын Марины, Франк, которого она родила до встречи с теперешним мужем Кристианом — это никогда не обсуждалось — присоединялся к моей сестре, и я видел, как они соревновались, кто лучше стоит на руках или прыгает с бортика. Потом они исчезали под водой — бесконечно задерживали дыхание, не двигались, словно уже умерли. Или садились на бортик, спускали ноги в воду, и Саммер смотрела на него, такого красивого и ужасно загадочного в зеркальных солнечных очках. Они могли просидеть так целую вечность. Франк был на три года старше Саммер, но казалось, он прожил уже несколько жизней. Он деликатно набрасывал ей на плечи полотенце, в которое она заворачивалась. Учил ее бросать яркий диск фрисби — он вечно оказывался высоко на дереве. А иногда они разговаривали, сидя напротив друг друга и ковыряя землю пальцами ноги, пока на лужайку не падали вечерние тени.
Может быть, сестра хотела там жить из-за Франка? Или из-за купальников Марины, собиравшихся в складки на ее неразвитой груди?
Как-то она ходила босиком в раздельном купальнике, который болтался и на бедрах, и на груди, и наша мама сказала, хитро улыбаясь: «Да зачем тебе лифчик? Там же нечего прятать». И Саммер обхватила себя руками, будто ей стало холодно или она ощутила себя нагой. Я помню ее глаза. Взгляд взрослой женщины в теле десятилетнего ребенка.
Мы сидим в кабинете доктора Трауба — он так же отстал от своего времени, как и мы, — и нас окружают чахлые растения и постеры восьмидесятых годов. Но мы не сдаемся. Мы разглядываем небесные лужайки, на которых вершатся наши судьбы. Побежденные, обманутые, оказавшиеся вне игры, мы упорно ищем мою сестру. У меня трясутся руки, пальцы доктора Трауба похожи на толстенькие лоснящиеся сосиски, но под свист ветра мы облачаем Саммер в прозрачное платье и ждем, пока она наденет его, — ждем отклика ее духа, ее души, простого воспоминания, следа, который она оставила в нашей жизни.
Меня долго расспрашивали, не заметил ли я чего-то такого в тот день. Может, Саммер показалась мне нервной или слишком задумчивой? Может, она говорила с чужими людьми? Может, после случившегося какие-то ее слова приобрели особый смысл? (Одному Богу известно, что они там себе напридумывали.)