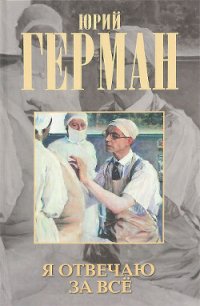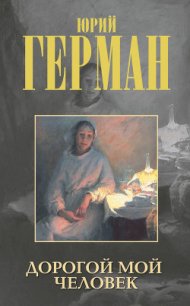Дело, которому ты служишь - Герман Юрий Павлович (книги онлайн полностью txt) 📗
Володя отвечал коротко, сухо и таинственно: пусть думают, что хотят!
На рождество его позвал в гости Маркелов. Устименко не пошел, глупо сославшись на занятость. Тогда Егор Фомич явился сам – с напомаженными кудрями, в крахмальном белье, душистый, весело-насмешливый, даже добродушный.
– Ох, и делов у тебя, соколик, – говорил он, заглядывая в пустые палаты, – ну и народищу ты лечишь, ну и работник ты у нас! Все протоплено, все постелено, с кухни щами попахивает, а дикие-то наши не идут. И не жди, доктор, не жди, голубок, не жди, простая твоя душа, не придут. У них своя медицина, они на нее не обижаются.
Сел хозяином в третьей палате, далеко протянул длинные ноги, пожаловался:
– Вот куда, вишь, налоги наши идут, кровное наше, заслуженное, нажитое. На вас, свистунов. Мы трудимся, шастаем и тундрой, и тайгой, и всеми богом забытыми местами, торгуем, цивилизируем, а нам что? Дули? Для лежебок же, лодырей и прочих туземцев – теплые палаты. Нехорошо, нет, нехорошо.
Сидел Маркелов долго, потом листал Володины книги, потом ткнул кулаком в его тюфяк:
– Жестко спишь! Подарить перинку, а, доктор?
Мады-Данзы радостно хихикал у двери, потирал руки, кланялся.
– Значит, не пойдешь? – спросил Маркелов. – Ну будь по-твоему. Я с открытой душой, а ты как знаешь.
Оставшись один, Володя сел за письмо Богословскому. Стиснув зубы, попивая из кружки большими глотками холодную воду, он писал до часу ночи. Это было письмо, полное ярости, горя, обиды и упреков. Зачем Богославский его сюда вызвал? Из хорошего к нему отношения? Ему не нужны ничьи хорошие отношения, он сам по себе человек, и, кстати, такой человек, который не позволит тратить народные деньги без всякого толку на содержание штата, на отопление, на пищу. Может быть, это издевательство тех правых элементов, тех родственников нойонов и баев, которые сидят еще в правительстве? Или, может быть, он, Устименко, нужен тут для бюрократической отчетности, что в Кхаре открыт стационар и работает амбулатория? Так вот, кстати, он ежемесячно сообщает о результатах своей так называемой работы, и никого это не касается, решительно никого. Короче говоря, он не намерен даром есть хлеб, не намерен отсиживаться и пропадать здесь. Он требует, чтобы его отозвали. И если он пишет недостаточно дипломатическим языком, то пусть его простят и примут уверения...
Письмо было на четырех страницах, и Володя не стал его перечитывать. Пусть будет что будет. Так дальше не могло продолжаться.
В феврале он получил новогоднее поздравление от доброго Жени Степанова. Открытка была веселенькая, бодренькая, с остротками, с явным желанием не иметь на свете недругов. «Ты оказался умнее всех нас, деревенский доктор, идейный врач, – писал Евгений. – Затирухи превратились в заграницу. Впрочем, во мне говорит зависть: все-таки интересно, разные там караван-сараи, муэдзины, восточные пряности, красавицы под паранджами, как ни говори, но экзотика есть экзотика. Небось как начнет смеркаться – надеваешь фрак и отправляешься в вечерний клуб, а, хитрец?»
Что Устименко мог ответить на это?
Впрочем, Евгений никогда не был слишком силен в географии.
Только не хотелось думать, что Варвара тоже считает, будто Володя «умнее всех» и во фраке отправляется «в вечерний клуб».
Радио Володя слушал мало: как это ни странно, но ему было почему-то неловко, когда за тысячи километров к нему доносился спокойный голос диктора: «Говорит Москва». Словно оттуда спрашивали: а что ты здесь делаешь, друг ситный? Тепло тебе, светло и не дует? Мы же тебя работать послали, а ты? Сложности у тебя? Объективные трудности, товарищ врач?
Глава четырнадцатая
Как поживает ваш скот?
Вечерами он читал.
И не то чтобы злился по поводу прочитанного, а как-то большей частью недоумевал. Было странно и даже неловко читать о человеке, который долго-долго, на протяжении многих страниц, и на курорте в Альпах, и в революционном Петрограде, и на Дону, и в войсках Каледина, и в Москве никак не может решить, что же такое Советская власть, подходит она ему или не подходит. Человек этот любил, разлюбил, размышлял под дождем и в хорошую погоду (все погоды и запахи были подробно и похоже описаны: действительно, сено в сырую погоду пахло именно так, а солнце во время короткого весеннего дождя светило тоже совершенно так), стрелял, убегал, скрывался, ездил в вагонах, плавал на пароходах и в конце концов опять-таки обонял всевозможные тонкие запахи, различая разнообразные цвета и любуясь особенными пейзажами, – Советскую власть признавал, но с ограничениями.
«Вот так так!» – удивлялся Володя, закрывая толстый том, на последней странице которого было многозначительно сказано, что это только конец «дилогии». Следующая из прочитанных им книг была написана с намеками. В ней герой был за Советскую власть, но тоже все больше наблюдал и подмечал различные родимые пятна капитализма. Не без яда он острил, но не совершал никаких поступков, хотя бы даже бессмысленных, вроде, например, Пьера Безухова, оставшегося со своей целью в занятой французами Москве; наоборот, герой этот занимался исключительно наблюдениями и часто делал выводы, что в этой жизни «не так-то все просто». II было это действительно так не просто, что Володя совсем перестал понимать данное сочинение, купленное им в Москве за девять рублей двадцать копеек в переплете, и отложил его до будущих времен. На третьем же сочинении, где автор очень густо и подробно описывал судьбу грабителя в послереволюционном Петрограде, Володя и вовсе подорвался: грабитель этот грабил людей и непрестанно рассуждал, и вокруг него все рассуждали, притом до чрезвычайности глупо и длинно, а в конце концов грабитель повесился, но не совсем, и тут Володя перестал читать беллетристику, а вернулся к прерванному тому «Ошибок и опасностей при хирургических операциях».
Как раз когда он читал эту книгу, и случилось происшествие, в корне изменившее его жизнь в Кхаре. С выпученными глазами, в спадающих туфлях, в подштанниках с завязками (Володя успел заметить, что подштанники казенные, с клеймом) к нему в комнату влетел Мады-Данзы и не то что крикнул, а как-то даже взвизгнул:
– Больные! Два! Скорее, да, а?
Володя отодвинул табуретку, посчитал до десяти, чтобы не волноваться и не вести себя слишком уж глупо, надел халат, шапочку и вышел в коридор. У входной двери, оба обледеневшие, в дохах, покрытых сосульками, в куртках, надетых поверх шуб, – «хурме», в обледеневших меховых унтах, стояли молча незнакомые люди. При слабом свете десятилинейной лампешки, дрожащей в руках Данзы, Володя сказал больным, чтобы они раздевались и проходили в приемный покой, но в ответ услышал сдержанный смех и только тут, по этому сдержанному, характерному смеху, что-то вспомнил, но тотчас же опять забыл.
– Позвольте! – сказал Володя.
– Да чего же позволять или не позволять, – услышал он вновь рассыпчатый, мужицкий, веселый говорок и теперь сразу, насовсем узнал Николая Евгеньевича Богословского, который медленно стаскивал с головы меховой треух и одновременно выбирался из всех своих обледенелых меховых одежд. – Чего ж тут позволять или не позволять, – говорил он, пожимая Володину руку и оглядывая его чуть издали – внимательно, строго и любовно. – Вы вот лучше товарища Тод-Жина узнайте, вы его не так уж давно видели, чтобы успеть позабыть. Да водочки велите подать, мы в полынью попали, ох уж эта скачка с наледи да в полынью, да опять черт знает куда, ох уж эти знатоки, следопыты...
И посыпался, и посыпался частый говорок, и сразу Володе показалось, что никогда и никуда не уезжал он из Черного Яра, что все сейчас будет прекрасно, спокойно, уверенно. А Богословский уже заглядывал в пустые палаты, качал головой, крепко растирая руки, и сетовал, оглядываясь на Тод Жина:
– Пусто, пусто, и верно пусто, ни единой живой души…
Выглянула «мадам повар», всплеснула ручонками, побежала, семеня, готовить праздничный ужин. Данзы уже принес байковые халаты, чистое, сухое белье, носки, шлепанцы, много раз поклонился Устименке: по тому, как с доктором Володей поздоровался Тод-Жин, он понял – больницу не закроют, его, Мады-Данзы, не выгонят, жалованье ему пойдет по-прежнему.