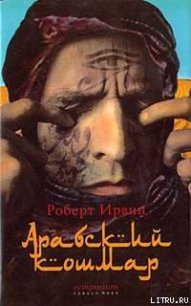Мнимые величины - Нароков Николай (книги онлайн полные .txt) 📗
Глава II
Камера № 15, в которую отвели Григория Михайловича, была небольшая: десять шагов длины и восемь ширины. В ней не было ни коек, ни стола, ни табуретов. Только одна двухэтажная полочка, перегороженная на ячейки, висела на стене. Окно было почти в земле, и лишь верхняя его половина была над землей. Но через эту половину ничего нельзя было видеть: в трех шагах от наружной стены стоял глухой забор, обитый котельным железом, с перепутанной и уже поржавевшей колючей проволокой наверху. Но тоска в камере была так сильна, и мысль о воле была так страстна, что постоянно кто-нибудь из заключенных подходил к окну, почти ложился на пол и, изо всех сил нагибаясь, старался снизу увидеть, через верхний пролет окна, хоть кусочек неба: то ясного и радостного, то облачного и унылого.
Несильная лампочка день и ночь горела под потолком. Воздух был неимоверно спертый, удушливый и прокисший. В углу стояла параша, которой заключенные (по взаимному уговору) старались днем не пользоваться.
Заключенные сидели на полу, поджимая к себе или под себя свои нехитрые пожитки. Но сидеть было трудно, а лежать было невозможно, потому что в камере было так тесно, что нельзя было даже понять: как это в ней может поместиться так много народа? Всего заключенных в камере было тридцать семь человек. Григорий Михайлович пришел тридцать восьмым.
Когда он вошел, он сначала ничего не понял: что такое перед ним? От самого порога, по всей небольшой площади пола, перепутанной и переплетенной кучей лежали люди. Лежали «валетами», лежали друг на друге головой или ногами, плотно прижимаясь один к другому и изо всех сил стараясь поместиться на своем маленьком кусочке пола. Густой воздух, полный зловонными испарениями и отравленный дыханием, встал перед Григорием Михайловичем почти видимой стеной, и Григорий Михайлович боялся сделать хоть один вздох. Этот воздух был не только ядовит, но он был и страшен: казалось, будто он полон той невыразимой тоской, которую день и ночь, во сне и наяву, каждый час и каждую минуту, с каждым ударом измученного сердца выдыхают из себя люди-тени.
Дверь за Григорием Михайловичем захлопнулась, засов загремел, и Григорий Михайлович остался стоять у двери, потому что дальше ступить было некуда: везде была груда человеческих тел в грязном белье, которые переплелись между собою немыслимым клубком.
Был седьмой час в начале. Кое-кто уже проснулся и курил. Остальные еще спали и судорожно всхлипывали во сне.
— Что ж… Здравствуйте! — тихо и спокойно сказал Григорию Михайловичу один из проснувшихся.
Григорий Михайлович повернул голову на тихий голос, но в груде тел не увидел того, кто с ним поздоровался. Он все же поклонился и очень вежливо ответил слегка дрожащим голосом:
— Здравствуйте…
— Сегодня ночью взяли? Или вас откуда-нибудь перевели сюда?
— Нет, я… Я сегодня… То есть меня сегодня взяли! — ответил Григорий Михайлович, хотя еще вчера он сказал бы не «взяли», а «арестовали».
Проснувшийся сел и оглянулся.
— Тесно у нас! — не то констатировал, не то пожаловался он. — Но в других камерах, говорят, хуже. И вы все-таки садитесь!
— Да, но… куда же? — с недоумением огляделся Григорий Михайлович: он даже ног не мог расставить, так как не было места.
— А вот там, где вы стоите, там и садитесь.
Постепенно начали просыпаться и шевелиться все. Кто-то громко и удушливо закашлял, кто-то с ожесточенным остервенением начал скрести себе голову обеими руками, кто-то стал вздыхать и несвязно шептать про себя. Потом все закурили, и Григорий Михайлович догадался, что и он тоже смертельно хочет курить. Он достал коробочку с папиросами и закурил.
Люди одевались, и Григорий Михайлович не понимал: как это они ухитряются одеться в такой тесноте, где нельзя даже ногу вытянуть, а надо все время быть скорченным. Многие уже встали и изо всех сил вытягивались в странной гимнастике, стараясь размять онемевшее за ночь тело. Другие «прибирали свою постель», то есть собирали в кучу какие-то узелки, встряхивали разостланное пальто и привычно устраивали себе на день нечто вроде сидения.
К Григорию Михайловичу подошел мужчина довольно высокого роста, с топорным, но умным лицом, которое еще было измято недавним сном, с очень внимательным, проникающим взглядом и с большой странностью на лице: у него не было бровей, а вместо бровей над глазами лежали две припухлые, красноватые полоски. Как потом узнал Григорий Михайлович, он постоянно сам выщипывал по волоску свои брови, нервно и конвульсивно выдергивая их пальцами. Даже и теперь, когда в бровях, кажется, не осталось ни одного волоска, он все еще бегал пальцами по красным бугоркам над глазами, перебирая и подергивая.
— Я — староста камеры! — отрекомендовался он. — Миролюбов, Николай Анастасьевич. Позвольте узнать ваше имя?
— Ах, очень приятно! — спохватился Григорий Михайлович и протянул руку, как если бы здоровался в гостиной. — Володеев, Григорий Михайлович.
— Вы потом разберетесь, — продолжал Миролюбов, — кто здесь сидит и кого как зовут, а вот только…
Он немного понизил голос и показал глазами в угол.
— Вот там лежит один… Козаков. Видите? Его не трогайте, он ночью с допроса пришел: почти трое суток допрашивали.
— Да? Трое суток? — не понял, что это значит, но испугался Григорий Михайлович.
— Сильно избит! — пояснил Миролюбов. — И на ногах десять часов простоял: не позволяли садиться.
— На ногах? — совсем похолодел Григорий Михайлович.
Он и раньше слышал про избиения и пытки на допросах, но относился к рассказам о них, как к чему-то такому далекому от него, что оно от этой отдаленности было нереально и почти воображаемо. Раньше он слушал эти рассказы и, делая вид, будто морщится от боли, говорил: «Ах, это ужасно!» — но никакого ужаса на самом деле не чувствовал. Но сейчас человек, весь избитый и простоявший десять часов на ногах, был уже не «где-то там», а лежал в углу, в пяти шагах от Григория Михайловича. И Григорий Михайлович почувствовал, как сосущая тоска крепко стиснула его сердце. Потом она уж не проходила, а все сосала и сосала.