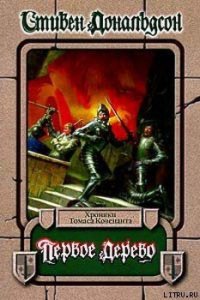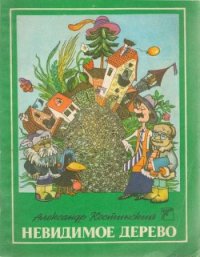Вышел месяц из тумана - Вишневецкая Марина Артуровна (книги онлайн читать бесплатно TXT) 📗
Сотни зрителей плачут, видя страшный конец Дездемоны, но каждый из них плачет о чем-то своем.
И под утро (поскольку полночи он боролся с соблазном немедленно ей позвонить — просто так, чтоб проверить, а вдруг впопыхах он неверно запомнил ее телефон):
Кто растет вниз головой, зимой и летом одним цветом, светит да не греет, в огне не горит, в воде не тонет, не лает, не кусает, а в дом не пускает.
Отгадка: past perfect.
И еще:
Жизнь зиждется на жажде, вожделении, воздержании и вождизме. И непобедим тот народ, который в силах это членораздельно произнести.
О, если бы он был в силах это еще и постичь!
А всего в это утро, осеннее и по-своему болдинское, он записал то ли десять, то ли даже одиннадцать афоризмов, было чувство, что он оказался на скрещении смыслов — в поле, силы которого сами их индуцируют…
А потом появился Кирилл, страшно худенький (2.800), потому что Людася боялась испортить себе им фигуру, и, должно быть, по той же причине на четвертые сутки он остался без молока. И пошло и поехало: детская кухня, а потом на нее аллергия, югославские и болгарские смеси, покупаемые с заднего хода «Диеты» у пьяненьких грузчиков, и чужие дипломы, дипломы и даже дешевка — курсовики, чтобы только хватило на еду, плюс на девушку Катю, дочку дворничихи, приходившую раз в два дня постирать и погладить пеленки, плюс Людасе на массажистку.
Он подумал, что если сейчас она так же печется о грешной душе, как когда-то пеклась о спасении своего «безогрешного» тела (сложена ведь была несказанно, что говорить!), — быть Людмиле в раю… Если только архангелы не почуют, что вся ее оголтелая вера — только средство опять и опять слыть на свете всех милее, всех румяней и белее.
Впрочем, путь для того и дается, чтоб идти, и идти, и однажды, сломав в себе что-то — например, свой надменный хребет, — хоть ползком, а приблизиться — к Богу, к истине… к первоисточнику…
Про надменный хребет он писал в предпоследней коричневой книжке и, потянувшись к ней было, руку отдернул: я его захребетник… хуже, стервятник… проглотил и отрыгивал целую жизнь, знать не зная, забыв уже напрочь!
Впрочем, эту гипотезу надо было еще доказать — Игорь встал, сделал два приседания — доказать скрупулезным анализом записей — из-под тумбочки вынул гантели и стал отжимать их — как, однако, с дождем посвежело! — обозвать себя каннибалом нетрудно, поедание тела Христова под видом просфоры — тоже память о ритуальном присвоении силы врага или даже отца; между прочим, матрешечный образ…— появилась одышка, что было немудрено после долгого, чуть не в месяц, перерыва из-за жары, — нет, матрешку оставим в покое, но додумаем все до конца, как всегда, как любую еще предстоящую запись: итак, по гипотезе, без Тарадая (без пожизненно защемленного нерва) он как автор записок не состоялся бы… бред! — Игорь резко поставил гантели на пол, чтобы лечь с ними рядом; он любил, отжимая их лежа, ощущать каждый мускул, сорок пять для мужчины не возраст, это только начало! — но чего-то не рассчитав: траектории, силы рывка, — он почувствовал острую боль сзади, справа, в предплечье, чертыхнулся и сел, группа мышц от плеча до лопатки ныла тупо, не отпуская, — это Нина без Тарадая прожила бы другую жизнь, в чем-то, может быть, совершенно другую.
Родив наконец здорового, славного мальчика, они с Джимиком все-таки взяли в детдоме ребенка, десятилетнюю Леночку… или, кажется, Олю, то есть брали ее как Анджелу, но во время удочерения имя ей поменяли — на то были свои обстоятельства…
Режиссера из Нины не вышло, лет, наверное, шесть она что-то пыталась поставить в самодеятельности, мотаясь по подмосковным ДК, кое-что закрывали ей сверху, а какие-то постановки рассыпались из-за непонимания труппой ее авангардных идей… Наконец Игорь был приглашен в город Электросталь, как и было обещано, на «Слепых» Метерлинка; при входе всем зрителям раздавались бумажные черные маски без прорезей — горбачевская оттепель только еще предвкушалась, и подобная дерзость ошеломляла, как и реплика одного из слепых о вине стариков, взявших власть. Остальное же: крики, переходившие в шепот, кромешная тьма, взмахи тканей и пыль в перекрестных лучах — наводило тоску, хотя Игорь старательно силился что-то почувствовать — что-то такое, чего в этом зале не ощутить никому, и уже разуверился в этой возможности, и тогда голос Нины (она исполняла роль юной слепой) с нежной дрожью пропел: «Мне… мне кажется, что я чувствую свет луны на руках!» — вот и все, горло стиснуло спазмом, поначалу ему показалось, что без всякой причины, но потом, когда сцена померкла, как если бы маска из черной бумаги вдруг съехала на глаза, он все понял, но спазм продолжался, и что-то, как лук, защипало в носу, и пришлось, потревожив соседа локтем, доставать из кармана платок и, тихонько сморкаясь, говорить себе: тоже мне Гамлет-Шекспир-мышеловка, просто голос, когда-то сводивший с ума, без морщин и нелепо поплывшей фигуры, чистый голос…— а потом снова вспыхнуло облако пыли, студийцы метались в своих балахонах, как куры, на этот раз возле умершего поводыря (две дамы, сидевшие сзади, разволновались: «Ты намек просекла, нет?! Ведь это — Андропов!» — «Ой, а точно! И в профиль похож!»), а потом из толпы вышла Нина с тряпичным младенцем над головой: «Он смотрит! — сначала сказала негромко и вдруг закричала с ненужным надрывом: — Он видит! Он видит! Наверное, нечто необычайное!» И, собственно, через минуту все действо закончилось — привкусом ложного пафоса, недолгими аплодисментами и роскошным букетом из роз, который, едва не упав от волнения, преподнес ей зардевшийся Джим.
А приблизительно через год у них наконец-то родился мальчишка. И, как это бывает, одно к одному, Джим вдруг сделался модным дизайнером при заказах и при деньгах, появилась надежда построить большую квартиру, и на той же счастливой волне они взяли в детдоме Аленку (да, он вспомнил, Аленку и, значит, наверно, Елену).
Тем не менее, приглашая его на смотрины, Нина и не скрывала, что это — лишь реплика в их неоконченном споре: «Ты увидишь, она восхитительна! Может быть, даже слишком, чтобы это зачлось! Ты увидишь ее и потом честно скажешь!»

![Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи] - Яценко Петро (книги онлайн полностью .txt) 📗](/uploads/posts/books/51649/51649.jpg)