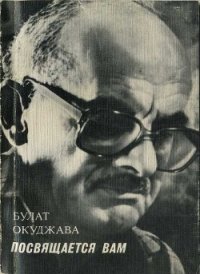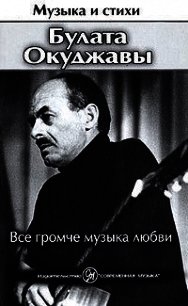Свидание с Бонапартом - Окуджава Булат Шалвович (электронную книгу бесплатно без регистрации txt) 📗
Не могу сейчас описать всех ощущений, хотя тому каких-нибудь три дня. Туман застилает память… Впрочем, запомнился теплый, еще апрельский сюртук на Тимоше… гладко выбритое, землистого цвета улыбающееся лицо… и странный, неведомый запах, стремительно распространявшийся по лестнице… Чем ближе мы сходились, тем он становился сильнее, он проник в комнаты, в гардеробную, и когда мы позже сидели за столом, его источали хлеб и молоко; вязкий, неотвратимый, пропитанный отчаянием запах сырого каземата, запах распада и гибели и человеческого унижения, наспех сдобренный стыдливым французским одеколоном.
Не дай вам бог вдохнуть его хотя бы однажды…
Часть четвертая
«С-Петербург, августа 14, 1926.
Любезный Игнатьев!
Надеюсь, ты добрался благополучно и нашел своих в добром здравии.
Теперь, когда все позади, признаюсь тебе, что за эти несчастные полгода мне пришлось пережить, пожалуй, поболее, нежели за все предшествующие годы. Ты спросишь, почему? А вот почему. Какие бы у нас у всех ни были различные мнения о некоторых предметах, ну, ты сам знаешь, что я имею в виду, но и ты, и наши давние друзья-приятели для меня не просто случайные встречные, а нечто побольше: много было говорено, попито, пережито, связано даже противуречиями. Ну что ж, хоть провидению не удалось нас примирить во взглядах (ты это понимаешь), но по душе, по взаимной симлатии мы остались прежними, и вот мне с моим сердечным отношением выпало на долю в один прекрасный день весть свой батальон, чтобы пресечь их напрасные попытки!
Застольные споры давно закончились, а вместо них вступили в дело власть, закон, сила. Я честно и благородно всегда отстаивал свои убеждения, и это не то что я с ними заигрывал и лицемерил, а пришла пора – и пошел противу них, и они не могут обвинить меня в лукавстве. И это я тебе говорю потому, что ты и сам утешил меня тогда, по дороге в Петербург, сказав, что ни у кого не может подняться на меня рука и ты меня понимаешь, потому что лучше все как оно есть, нежели братоубийство и дурной пример для наших людей. Бог свидетель, я не хотел им зла, они сами упрямо выбирали по своему вкусу, но в том, что именно мне суждено было им противудействовать, я вижу трагическую и несправедливую насмешку судьбы!
Ты сказал, что простил меня. Я тебе верю. Если бы я усомнился в твоих словах, я не стал бы тебе писать. А теперь мы остались вдвоем.
Надеюсь, ты отошел немного и сумел все осмыслить и уже не похож на того удрученного арестанта, каким выглядел по дороге в Петербург и затем, входя в ордонакс-гауз, так что сердце у меня переворачивалось, а сделать я для твоего облегчения ничего не мог. Скажу тебе по совести, выглядел ты, брат, неважнецки и на меня глядел с осуждением, хотя вскоре убедился все-таки в моей незлонамеренности. А когда я провожал тебя обратно из Петербурга после неопасной твоей, недолгой отсидки, ты был уже совсем другой, и помнишь, как мы обнялись? Я помню: по-братски, по-гвардейски.
После твоего отъезда во мне вдруг все переменилось. Захотелось, любезный друг, на волю, к черту, к пенатам. И раньше влекло, но как-то ненатурально, несерьезно, а тут дрогнул и будто прозрел. Да что ж это такое, подумал я, сколько же можно тянуть эту пышную лямку? И теперь кровь из носу, я вырву отставку зубами и укачу к своим деткам на вольные просторы.
Я рад за тебя. Как хорошо, что ты на воле. Бог не допустил несправедливости. Забудь этот дурной кратковременный сон. Как выйду в отставку, сразу прикачу к тебе и не должен буду никуда торопиться, и уж тогда всласть наговоримся, повспоминаем и помянем… Скажи Варваре Степановне, что я влюблен в нее с той поры, как встретились в лесу, а уж Лизочка твоя – просто ангел.
Трижды обнимаю тебя
твой Пряхин».
«С-Петебург, октября 21, 1826 года.
Разлюбезнейший Тимоша!
Ответа от тебя пока не получил, но терпеливо жду, будучи знаком с капризами нашей почты. Полагаю, что вы с Лизой осуществили свои сладчайшие намерения. И то дело. Бери пример с меня: жду шестого наследника, а первые пятеро живы-здоровы и полны бодрости. Пусть они живут в довольстве, не зная моего полунищего детства и отрочества. Мне бы, конечно, дождаться твоего письма, но я не утерпел, потому что однажды, перебирая свои давнишние бумажки, нашел несколько, имеющих к тебе отношение. Конечно, это не изящная литература, бог не дал, но все же живые дневникрх твоего старого друга Пряхина, в которых он бесхитростно запечатлел несколько дней из славного нашего совместного прошлого. Читай, смейся и грусти.
Теперь уж все в былом и как бы его и не было вовсе, а все же, что там ни говори, оно наша жизнь, не выкинешь. Натурально, я читал все это и досадовал, что недостало терпения записывать все подробнее и на протяжении всей кампании, да что ж теперь кулаками-то махать? Я сам перечитывал эти заметки, смеялся и плакал, ей-богу, и все время ты стоял предо мною: то тот самый, из тех времен, совсем еще мальчик, насмешливый и порывистый, готовый даже на сумасбродство, ежели оно показалось тебе благородством; то этот, нынешний, взрослый муж, познавший даже каземат и многое другое, а главное, понявший, что в государстве надо жить, исполняя его законы, а иначе случится анархия и черт знает что…
Ты помнишь, как мы с тобой обнялись? Трижды, по-братски, по-гвардейски, ведь теперь нас осталось двое.
Нынче дела мои с отставкой движутся постепенно в нужном для меня направлении. Слава Богу! Скорее бы! Зачем мне это все? Все эти погоны, воротники с обшлагами, аксельбант и прочее? Я же видел, как срывали погоны на июльском плацу и шпаги ломали над головами… Вот и выходит, грош цена всему этому. Конечно, я многого лишусь, и прежде всего полковничьего жалованья, да но ведь и трат пропасть, ибо, покуда своих кровных не вложишь, в гвардии не проживешь. А мне ли тягаться с Бобринскими да Зубовыми? У себя в деревне я и сам что твой князь, да и люди мои меня любят; да и Петербург опостылел после всех известных тебе дел.
Ну ладно, брат, читай и смейся, да не насмехайся надо мной: от чистого сердца посылаю, писал как умел.
…Раштат, 1 генваря, 1914
Боже, благослови начало нового года, осчастливь мир Твой миром, возврати нас со славою в объятия к родителям и сыновьям нашим…
Об том я молился, проснувшись.
Вчера около двенадцати часов ночи, только я уснул, как Демьянов прислал звать проводить вместе улетающий год и встретить вместе же наступивший с бутылкой шампанского… Однако сон уже подкрадывался столь сладок, что я пренебрег. Сегодня утром по заведенному обычаю был с поздравлениями у Кикина, у того же Демьянова, у графа Сиверса, у Акличеева. Оттуда все в церковь, где выслушали обедню и молебен, обер-свя-щенник проговорил проповедь, а когда вышли, я в одном мундирчике порядочно продрог – морозец изрядный, да и ветер прескверный.
Обедали в здешней картинной галерее. Слухи: действительный камергер Жеребцов везет государю ключи от Данцига. Натурально, все пили и за это, ибо гарнизон Данцига во главе с Раппом сдался и все там забрано.
Мороз держит. Переправы через Рейн нет. Мы обедали, обедали, и обед постепенно перешел в ужин – вот и вся наша жизнь. Тимоша Игнатьев пьет мало, и, может быть, потому вокруг него все вертится, а может, его темперамент возбуждает всех, а может, молодость. Во всяком случае, он шалит, шутит, и все смеются, а умолкает – все пьют, и он среди всех как у Христа за пазухой… И, когда начались всякие разговоры о том о сем, чего я так не люблю, ну, всякие там сравнения нашей и французской жизни и всякие революционные прелести, я сказал, мол, чего же тут хорошего и так далее… Тут все на меня напустились, но без злобы, а Акличеев сказал: «Господа, не трожьте Пряхина, у него сын родился». – «Вот именно, – сказал я, – сын родился. Мне его надобно кормить, а на революции у меня надежд нету». И Тимоша, конечно, первый загорелся, но тут, слава Богу, Райнхильда его поманила, что ли, и он выскочил из-за стола со взором, годным для атаки… В сердечных увлечениях он пылает, будто в сражении, а вот под Веной, когда поскакали на французские позиции, я глянул на него – лицо у него было вдохновенное, как перед любовным свиданием. Я ему после сказал даже: «Тимоша, нельзя так возбуждаться, в атаку идучи. Хладнокровие прежде всего. Поверь старому вояке…»