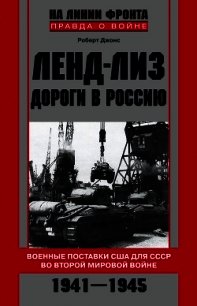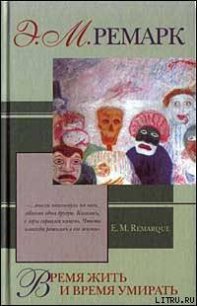Я бросаю оружие - Белов Роберт Петрович (читать бесплатно книги без сокращений txt) 📗
По партам прошел шумок, Очкарик состроил мину удивительного удивления, и даже у меня брови сами поднялись.
— Нет, я не оговорился, Хохлов и Кузнецов. Я не вписывал официальной рекомендации в его заявление-анкету, но я прекрасно помню, что именно я, и, видимо, первым рекомендовал Виктору подумать о вступлении в комсомол. Свое личное отношение ко всему с ним случившемуся я смогу позже высказать, если потребуется. Если вы мне позволите. Но и сейчас считаю своим долгом сказать, что не раскаиваюсь в той своей неформальной рекомендации, не считаю ее ошибочной и не отказываюсь от нее. Поэтому для меня совершенно непонятно, почему на собрании не выступил ни один из дававших ему рекомендации, хотя рекомендующий, насколько мне известно, несет полную моральную ответственность за своего, так сказать, протеже, согласно самого и вашего Устава...
— Я скажу. Я только думал, что прежде он сам скажет, — пробасил тезка, Витька Зырянов.
— Товарищи, однокашники, одноклассники Кузнецова тоже, видимо, чего-то ждут? Из них здесь тоже никто не выступил. Или нет у него здесь товарищей?
— Есть!
— Есть!
Это крикнули почти разом Мустафа и который-то из Горбунков.
— Ну что же, лучше позже да лучше, — улыбнулся Семядоля. — Еще одно, частное замечание, которое я считаю необходимым сделать. Почему вы, Володя, сочли возможным доложить собранию, что школьный комитет принял решение об исключении Виктора Кузнецова из комсомола? Насколько я помню, комитет у нас состоит из трех человек, а Лешу Костырева мы больше месяца назад проводили в Красную Армию. Комитет в таком составе просто неправомочен, нужны довыборы. А вам бы, Володя, я очень не рекомендовал привыкать отождествлять и почитать собственное единоличное решение и мнение за мнение и решение самого коллективного органа. Принцип коллегиальности руководства как составная, но неизымаемая часть демократического централизма, руководящего принципа организационного строения комсомола, тоже прямо заложен в вашем Уставе. Так?
— Я же не один! — вскинулся Очкарик. — А Рабкин? — Ни вы, ни Рабкин, каждый в отдельности и даже оба вместе, не являетесь еще комитетом комсомола. Школьный комитет, как постановили на последнем отчетно-выборном собрании ваши товарищи, должен состоять из трех человек. А решение общего собрания должно быть для вас законом. Есть у вас гарантия, что неизвестный вам третий член комитета Икс или Игрек, допустим Сухов или Зырянов, непременно целиком и полностью разделит вашу точку зрения и совершенно не может на нее своими какими-то, вам не пришедшими на ум доводами и соображениями, повлиять?
Здорово принялся за него дир-директор. Пух и перья! И разговаривал прямо как со взрослыми. Мне вроде бы было не до всяких сторонних мыслей, не до жиру — быть бы живу, судьба же висела на волоске, да и то подумалось, что Семядоля Очкарику построил целую воспитательную политику.
А дир продолжал:
— И еще. Когда с вами и со мной беседовал участковый уполномоченный товарищ... — Семядоля достал записную книжку, сшитую из школьной тетрадки, и порылся в ней, — товарищ Калашников, он нам с вами специально ведь сказал дословно почти так: билет выбросил, видать, потому, что стыдно стало — комсомолец, а замешан в таком неприглядном деле; стыд оказался сильнее боязни наказания, вот и отчебучил первое, что только пришло в голову, иначе бы не решился, остерегся бы хуже для себя же сделать. Почему вы никак не поставили собрание в известность о том? Причем это не частное мнение, а официальная информация официального лица. В своих привязанностях и антипатиях вы, разумеется, вольны, но как комсомольский руководитель в решении дел организации и любого ее члена обязаны быть предельно объективны. В данном случае вы вели себя непринципиально, по-видимому даже нечестно, о чем я считаю нужным сказать вслух. О том, как вы неправомерно истолковали за преднамеренный обман комсомола вступление Кузнецова в союз прежде чем исполнилось четырнадцать лет и обескуражили, ввели в сомнение всех нас, я уже упоминал...
Вот тут и началось.
Едва Семядоля кончил, первым ринулся Витька, тезка, Бугай:
— Дай мне слово!
— Погоди, дай я! — Мустафа ни у кого никакого слова и не спрашивал, а прямо выскочил к столу.
Очкарик после Семядолиного выступления сидел совсем припухший, но когда увидел Мустафу, не выдержал и закричал:
— А ты, Мустафин, вообще не имеешь права присутствовать на собрании! Ты еще никакой не комсомолец.
— Сам ты никакой, а я какой! Кузнец — трус, говорил? Он один со всей шпаной дерется! Манодя Монахов только. Вот теперь я и сам все сказал! Пусть еще Горбунок скажет!
— Который? Они оба на одну физиомордию, — посгальничал кто-то из десятиклассников, сидящих на Камчатке.
— Пускай тот выскажется, который у них групкомсорг в классе.
— Ты дашь мне слово наконец? — рявкнул на Очкарика Витька Бугай.
— Хохлов, ведите же собрание! — опять повысил голос Семядоля.
А Очкарик вел себя, как мешком ударенный. Будто не меня исключали, а его. При Семядолиных словах он вроде бы все-таки опамятовался и сказал:
— Слово имеет Зырянов из десятого класса.
Бугай не стал выходить к столу, а пошел прямо с места:
— Я за Кузнецова ручался и ручаюсь! А пусть он все-таки толком объяснит, что и как было, и почему он так поступил.
Бугай сел. Вовка Горбунок смотрел на меня прямо как умоляющий, а потом сказал:
— Давай, Кузнечик. Давай!
Вставать на этот раз было даже страшнее, чем в первый. Еще когда выступил Семядоля, у меня потихоньку свербило в узгочках глаз, у переносья. Не то чтобы мне было так уж жалко себя, обиженного. Но я тоже так считал, что накажи как угодно, но за то, в чем действительно виноват. А то навешают всех собак... Мне пришлось напрягать глаза и скулы, удерживаться из последних своих силенок, чтобы прилюдно не расплакаться. Но я вытерпел все-таки, снова рассказал все от начала и до конца, с объяснениями, которые у меня требовали, только очень медленно и с трудом поворачивал языком. Лишь о вступлении в комсомол не стал ничего говорить; по-моему, после Семядоли и так было ясно, да и как тут будешь говорить? Что, мол, хотелось стать хоть чуточку похожим на Шурку Рябова? Так ребята, услышав, просто засмеют, скажут, поди: сравнил ж... с пальцем и божий дар с яичницей...
— К Кузнецову вопросы будут? — повел свое дело Очкарик.
— Кто все-таки был с тобой? — спросил кто-то.
— Тебе-то что? Хочешь, чтобы и еще кому-нибудь влетело? — за меня ответил ему мой тезка.
О вступлении меня тоже не допрашивал никто: видать, и впрямь всем все на этот счет было ясно. Потом вышел Ленька Горбунок:
— Тут Шадрин из «б» высказался, что Кузнец... Кузнецов то есть, зазнайка, задаваха и выбражуля. Ничего подобного! Наш класс, и комсомольская группа тоже, знают его как настоящего товарища. В общем. И любят...
— А велика ли у вас группа-то? Вы да он, — хохотнул Перелыгин.
— Пускай! И я тебя, Передрыгин, Перелыгин то есть, не перебивал — ты меня не перебивай!..
Ребята грохнули.
— Я те покажу Передрыгина, выйдешь вот! — пробурчал Перелыгин.
— Ты сначала разберись, который из них который! Они вдвоем-то тебя как бобика делают, — хохотал Витька Бугай.
— Хватит! — Очкарик заколотил ручкой по графину. Ожил, видать. Горбунок продолжал:
— Только вот зря последнее время Кузнецов от нас отшатнулся, больше со своим Мамаем одним... с Германом Нагаевым то есть. Но если уж Кузнеца исключать, то и нас надо исключать тоже, хоть мы и не дрались. А задавало не он, а быстрее задавало сам Очка... Хохлов то есть!
Ребята еще раз грохнули. Тогда опять поднялся Семядоля и снова заговорил, но с места:
— Я бы хотел, чтобы вы все-таки были посерьезнее. И совсем уже не хотел, чтобы кто-то из Кузнецова сделал бы героя! Это ему повредит ничуть не меньше, чем всякое другое необдуманное ваше решение. Не забывайте, что при всем при том никто иной как именно он учинил безобразную драку в общественном месте и так по-варварски обошелся со своим главным комсомольским документом!