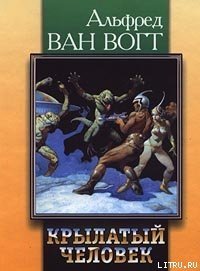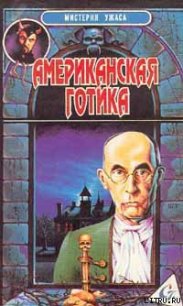Современная американская повесть - Болдуин Джеймс (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
— Я не знаю, сэр, — повторил он громко, но спокойно. — Я не знаю, о чем бы я позаботился в первую очередь, составляя такую таблицу распределения. Я — пехотный офицер. Моя военная специальность 0302.
Лоб полковника порозовел:
— Я же сказал, капитан, что хочу услышать хотя бы самый приблизительный ответ. Я и не рассчитываю, господа, что вы знаете этот вопрос до тонкости, от вас требуется лишь высказать свои предположения.
Маникс стоял, огромный, неподвижный, и, мигая, глядел на полковника.
— Могу только повторить, — сказал он наконец, — что у меня нет ни малейшего представления о том, что здесь следует учитывать в первую очередь. Я не кончал транспортного училища. Моя специальность 0302. И осмелюсь почтительно заметить, сэр, что едва ли тут найдется человек, знающий ответ. Они забыли даже то, что знали семь лет назад. Большинство из них винтовку не сможет разобрать. Они стары для этого. Им полагалось бы сидеть дома, с детьми.
Он говорил с жаром, но сдерживался, стараясь не выказать злости и непочтительности. В словах его была суровая простота неоспоримого факта — словно перед судьями выступал адвокат, настолько убежденный в невиновности своего подзащитного, что ему не нужно было горячиться и краснобайствовать. Он умолк, и воцарилась мертвая тишина; глаза у полковника полезли на лоб, казалось, от изумления он лишился дара речи. Потом несколько неуверенно он назвал другую фамилию, и Маникс сел, глядя перед собой остановившимся взглядом.
Дело пахло военным судом, по меньшей мере взысканием, однако все обошлось. Ничего не было — никакого резонанса, никакой отдачи, ровно ничего. История либо была забыта, либо запечатлелась где-то в коллективной полковничьей памяти, где все подобные происшествия сортируются на предмет грядущего воздаяния. Но как бы ни подействовала эта история на полковника и какие бы высокие инстанции ни прослышали о ней, на Маникса она повлияла определенно. И результат был неожиданный. Маникс как будто не отвел душу, а, наоборот, еще больше ожесточился, еще охотнее срывал злость — на себе, на начальстве, на ком угодно.
В то время в глазах Калвера его образ был неразрывно связан с «Райскими вратами» — так прозвали злоязычные рядовые дом офицеров, воздвигнутый чьей-то прихотливой рукой прямо посреди болотистой равнины. Они с Маниксом жили наверху, в комнатах для холостяков. Место это своим беспечным изобилием напоминало средиземноморский курорт, и зеркалом, воплощением его роскоши, был плавательный бассейн, сверкающий, будто овальный сапфир в оправе песчаных дорожек, цветников и причудливой поросли пляжных зонтиков. Здесь ежедневно в десять минут пятого, едва успев сбросить форму, появлялся Маникс — огромная понурая фигура с бокалом джина в руке, в цветастой рубахе навыпуск, по которой в типично гражданском беспорядке порхала эскадрилья чудовищных бабочек. И Маникс, и Калвер ненавидели это место — его поддельную роскошь, атмосферу пьянства и тупой праздности, танцы, пустой служебный разговор кадровых офицеров и томные, напевные голоса их жен, которые надменно прогуливались перед резервистами, красивые и зазывно-неприступные. Здесь все дышало скукой, неприкаянностью, разложением. «Тюрьма какая-то, — говорил Маникс, — все к твоим услугам, кроме счастья». Однажды ночью, напившись — а он редко позволял себе такую роскошь, — Маникс вытащил из комнаты все бумаги, книги, мебель и, запинаясь, но решительно, заявил, что намерен спалить это заведение. Калвер отговорил его, хотя в душе с ним соглашался; они проводили здесь время от безвыходности — на сотню миль вокруг не было другого места, и некуда было податься, даже если бы они захотели.
— Черт возьми, это унизительно, — сказал однажды Маникс, как будто желая выразить все одним словом. — Это как с женщинами. Вернее, без женщины. Малолетку какому-нибудь, может, и ничего — обходится без этого дела, но если тебе под тридцать — это унизительно. Просто-напросто унизительно. Если бы не Мими, я бы давно уже подцепил одну из этих гарнизонных шлюх. И вся эта петрушка — сплошное унижение. Я знаю, сам виноват, что не уволился вчистую, тут и говорить нечего. Болван был. Да разве я думал, что меня будут призывать из-за всякой вонючей международной склоки? Унизительно, понимаешь? — И жестом мрачного отчаяния он выплеснул в рот остатки из своего стакана. — Унизительно человеку моих лет ползать на брюхе, как псу. А еще унизительней… — Он окинул презрительным взглядом сверкающую хромом террасу у бассейна, где гроздьями матовых лун висели японские фонарики и в вялых приморских сумерках вился серебристой канителью пустой и пронзительный женский смех. Стояла тихая южная ночь, обсыпанная звездной пылью, и отдаленное блеяние саксофона казалось печальным и нерешительным, как это удушливое лето и страна, застывшая на грани войны и мира. — А еще унизительней приходить каждый день с полигона и торчать в таком вот ночном клубе, когда тебе только одно нужно — вернуться домой. К жене и детям. Не могу я здесь, понимаешь?
Но под этим бунтом, чувствовал Калвер, у Маникса, как и у всех у них, крылось смирение. Ведь Маникс был из поколения безропотных, он и сам сознавал, наверно, что бунт его — не общественный, а личный, и потому безнадежный, даже бессмысленный, что силки, в которые все они попали, не разорвешь в одиночку, только затянешь еще туже.
— Знаешь, — сказал он как-то, — я, наверно, только раз как следует испугался в прошлую войну.
В его словах было какое-то покорное равнодушие, и сказаны были они равнодушно, как «в прошлое воскресенье» или «прошлый раз, когда я был в кино». Разговор происходил на пляже, куда они отправлялись каждую субботу, когда стояла жара. Здесь, на берегу моря, в мрачном уединении, соприкоснувшись со стихией более значительной и более долговечной, чем война (по крайней мере так им казалось в солнечный полдень), они ощущали почти полный покой. Маникс был умиротворен и кроток — чуть ли не впервые с тех пор, как Калвер с ним познакомился, — и звук его голоса после долгих часов, напоенных тишиной и солнцем, поразил Калвера.
— Да, черт возьми, — сказал он задумчиво. — Испугался я всего один раз. То есть по-настоящему испугался. Мы жили в Сан-Франциско, в отеле. Знаешь, ближе к смерти, чем тогда, я, наверно, ни разу не был. Мы напились в дым — свиньи свиньями. Человек пять нас было — только что из учебного лагеря. Щенки. Сидим, значит, в этом номере на десятом этаже, и такие пьяные, что дальше некуда. Я в ванную пошел — принять душ. Было поздно уже, за полночь; ну, принял я душ и вхожу в комнату голый, в чем мать родила. Я вхожу, а двое из ребят меня уже ждут. Схватили и тащат к окну. А я так нагрузился, что даже отбиваться не могу. Выпихнули меня в окно и за пятки держат, а я вишу в воздухе вниз головой, голый, в чем мать родила, и до земли мне лететь — десять этажей. — Он замолчал и отпил пива. — Представляешь, что я чувствовал? — медленно продолжал он. — Я сразу сделался трезвый, как стеклышко. Представляешь, что значит висеть на десятом этаже вниз головой, когда за ноги тебя держат двое пьяных? А я, понимаешь, тяжелый был, ну как сейчас. Помню только: огоньки внизу — крохотные, людишки словно муравьи ползут, и держат меня за мокрые, скользкие щиколотки два пьяных идиота, ржут-помирают и никак не договорятся, отпускать меня или нет. Помню, холодный ветер меня обдувает, и темная, знаешь, конца ей нет, темнота кругом, и ноги мои потихоньку выскальзывают, выскальзывают… Веришь или нет, но я действительно увидел Смерть, и единственное, о чем я тогда думал — эти гады вот-вот меня выпустят, я сейчас упаду и разобьюсь об эту твердую, твердую мостовую. Я, наверно, молился. Помню только, как стучит в голове кровь, как выскальзывают ноги и еще какой-то жуткий звук. А я, понимаешь, руки тяну, за воздух цепляюсь. А потом подумал: что это за звук такой, громкий, высокий, и понял: это я сам ору благим матом на весь Сан-Франциско. — Он умолк и повозил по песку заскорузлой пяткой. — В общем, втащили обратно. Другие двое, которые были потрезвее, они меня и втащили. И теперь, как вспомню об этом, мурашки по спине бегают — вверх и вниз, здоровые такие, холодные мурашки.