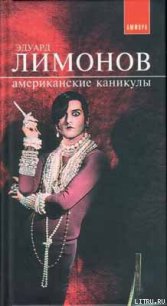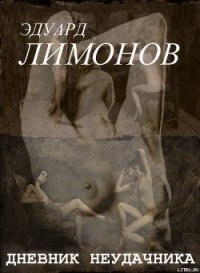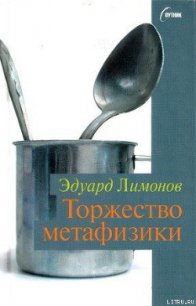Это я – Эдичка - Лимонов Эдуард Вениаминович (библиотека книг .txt) 📗
Людям, знающим ее, можно будет распустить слух, что она уехала к сестре, которая из разрушенного на хуй Бейрута перебралась или в Рим или в Париж – соврать всегда можно. А эти девять месяцев, не все, но первые шесть точно, я смогу еще ебать Елену, что она сможет сделать? Ничего. Позлится, поорет и успокоится. Я буду ее ебать каждый день, много раз, ведь нам, в сущности, нечего будет делать. При мысли о таком счастье у меня кружится голова и, как при всякой мысли о Елене, встает хуй…
…Это будет какой-нибудь Коннектикут. И мысленно я переношу место действия выдуманного мной похищения в дачу Алекса и Татьяны Гликерманов. Дача мне их нравилась, мы с Еленой были там пару раз, когда еще были супругами. Теперь она, кажется, изредка бывает у них одна. Даже в клозете у Гликерманов висят картины Дали, которого Алекс друг, ведь он, Алекс – директор очень модного модного журнала. В Татьяну же некогда был влюблен Володичка Маяковский, а если вы помните, я уже где-то обмолвился, что дружил в Москве с Лилей Брик. Странно, что судьба упорно связывает Эдичку с сексуальными преданиями другого великого поэта.
«Жена моя, не разведены мы до сих пор. Как же я тебя люблю», – думаю я с ужасом от открывшейся мне еще раз жуткой глубины пропасти моей любви. Я сделаю, сделаю это, убежденно говорю я себе. И пусть меня, если обнаружат, судят – любовь всегда права, всегда права, и я это сделаю, ни хуя я судьбе не покорился, судьбе, отнявшей у меня Елену, только затаился на время, жду…
Опадающие листья на этой даче медленно исчезли, но хуй до сих пор еще стоял, во мне было некоторое довольство, как будто я только сейчас выебал Елену и внутри ее завязался этот таинственный процесс. Ух!..
Я очнулся от своих мыслей. Идею я запомнил и спрятал, и пошел к группе людей, из центра которой доносился гитарный рокот, ритмика какого-то ударного инструмента и хриплые голоса.
Мордастые парни, собравшись под деревом, чуть не соприкасаясь лбами, поют какую-то песню, ритмическую. Я почти не понимаю их песни, но они сами, кое-кто с татуировками, со вставными зубами, мне знакомы. В России в одно и то же время, как и здесь, в Америке, появились такие же. Мы там у себя не знали, что мир живет по одним законам. Передо мной встает видение харьковского пляжа…
…Витька Косой, такой же мордатый, как эти мордатые, здоровый ногастый парень, обратившись лицом к еще более мордатому моему другу Сане Красному – мяснику, глядя ему в глаза, чуть не соприкасаясь с ним лбом, поет, дергая гитару, «русский рок»:
Мелодия этой песни пришла из радио-эфира, может, отсюда, из Америки, а ее слова, повествующие о попавших в бурю и подобранных американцами четырех советских солдатах-пограничниках сочинил русский народ.
Косой тогда только что приехал из Москвы, где он три года служил солдатом, и привез эту и еще десятка два-три подобных песен.
Они поют. Их обступили. Вот человек в плавательных трусиках с пальмами. Все его называют «Голливуд». Прозвище это он получил за то, что говорил цитатами из зарубежных фильмов. Например, идем мы по парку осенью. Голливуд обязательно скажет: «Эти листья шуршат, как американские доллары».
Люди на Вашингтон-сквер совершенно те же. С небольшими, чисто американскими отличиями, например – цветные татуировки на коже, и то, что часть из поющих и стоящих вокруг – черные. И все же я узнаю во многих своих далеких, давно уже спившихся харьковских друзей. С улыбкой мудреца замечаю я и сидящих в обнимку на парапете двух вульгарных накурившихся девиц-блондинок. По их припухшим лицам, накрашенным и смазанным ртам и глазам я узнаю неизменных наших подруг – девочек с Тюриной дачи – Масю и Коху, только что они переговариваются между собой по-английски. Другие зрители тоже знакомы. Этот вот – с черными зубами – Юрка Бембель, которого расстреляли в 1962 году за изнасилование несовершеннолетней… А это примерный студент-технолог Фима…
Удовлетворившись песней, по окончании которой вся поющая компания закусывает сигареткой марихуаны, я иду дальше, выхожу из парка к Студенческому Католическому центру и иду по Томпсон-стрит, вниз, где, проходя мимо мексиканского ресторанчика, разглядываю мимоходом не перестающие меня удивлять разнообразно-необычные шахматы в витрине шахматного магазина. Порой я иду левее, по Ла-Гвардии, где захожу в магазин тряпок. Его владелица – крупная белокурая полька – говорит с кем-то из посетителей по-польски. Я неизменно отвергаю ее помощь и разглядываю шляпы. Полька не злится, хотя я у нее никогда ничего не купил, а всегда только разглядываю. Особенное пристрастие у меня к белым вещам. Выйдя от польки, я пересекаю Хаустон-стрит, улицу скушную, захолустную как улица гоголевского Миргорода, но с двухсторонним движением, и спускаюсь в Сохо.
Как бывало, идешь по улице, а перед тобой идет необыкновенный горбун или человек, у которого на пол-лица лишай, то тебя, бедного нормального и скромного, уже никто не замечает. Так в Сохо. Человек, идущий по улице в рыцарских доспехах и как бы в стакане из американского флага, тоже меня не удивил. Никого он не удивил, разве что туристов из Оклахомы или Вайоминга. У них в диких степных штанах, как говорят, увидят длинноволосого или педераста, то изобьют непременно, как в России когда-то били людей, носивших узкие брюки и длинные волосы. Тут туристы ведут себя вежливо.
Содержимое галерей Сохо давно мне приелось. В Сохо я бываю со дня своего приезда в Америку. Деревянные велосипеды, деревянные пишущие машинки и деревянный же шопинг-бэг, или деревянное растение вместе с тоненькими, колеблемыми ветром листьями, так же как и скелет огромной рыбы – все это я равнодушно провожаю глазами. И художник – маленький японец, тоже сделан как бы из дерева, такие скулы, такое лицо, хрящеватые уши. Я привык к современному искусству еще в Москве. Добрая сотня художников были моими друзьями. Я не удивляюсь фотографическому циклу, изображавшему пробивание дыры в доме, поперечным разрезам комнат, видам справа и слева, сверху и снизу, и в довершение всего выставленному куску стены вместе со штукатуркой, я не удивляюсь. Мешки из тюля в галерее Кастелли – баснословно далекий когда-то из России Раушенберг вступил в свой салонный период. Куда больше нравится мне его работа в Модерн-арт на 53-й улице – брезент, железо, использованная автомобильная шина – все грубо и резко – в картине виден протест. Теперь Раушенберг мэтр, светило, его купили, его работы стоят огромных денег и естественно – вряд ли он сам это понимает – тюлевые мешки это его салонный период, пюи-де-шаванство, он стал светским художником, украшающим, благолепным. Мне жалко исчезнувшего из его работ брезента, грубой фактуры. Америка разделывается со своими художниками другими средствами, чем Россия. Впрочем, Россия тоже умнеет, и выставка моих друзей – крайне левых художников – в Правлении Союза художников СССР тому пример – управляющие русские учатся у своих американских коллег более современным гуманным средствам убийства искусства, а именно: хочешь убить художника – купи его…
Посетив все галереи, которые находятся в том же здании, что и галерея Кастелли, я обычно спускаюсь на Вест Бродвей. Бродят люди. Художников я всегда отличаю. Мне знакомы их лица, как и лица мордатых парней с Вашингтон-сквер. Это лица моих московских друзей художников. Бородатые, внешне одухотворенные, или напротив – неприметные, замученные ли работой или свежие и нахальные, они знакомы мне до ниточки морщин, так же как и лица их подруг – верных, прошедших с ними сквозь многие годы, и случайных, веселых спутниц по постели, выпивке и курению, не затронувших души, сегодня прибывающих, завтра уходящих. В апреле и марте мне хотелось жить в Сохо, я рвался туда, мне хотелось жить в небольшом доме, знать всех соседей художников, сидеть по вечерам на ступеньках этого дома, пить пиво, трепаться с соседями, завести прочные связи, мне так хотелось, но лофты чрезвычайно дороги, и тогда я не осуществил своей мечты. Сейчас, когда я стал спокойнее, я уже не хотел бы жить в Сохо. Я понял, что я очень изменился, что меня уже не удовлетворяет только искусство, и люди искусства, и то, что когда-то делало меня счастливым, тот богемный, веселый образ жизни уже невозвратен, а если бы мне удалось его сымитировать, это оказалось бы вскоре ненужным, раздражающим и злящим повторением уже виденного. Они эгоистичны, думаю я, тащась по улице и глядя на обитателей Сохо, они ищут успеха у этого общества, они циничны и замкнуты в своем кругу, плохо поддаются организации и, в конце концов, только часть этой цивилизации. В молодости они протестуют, ищут, негодуют в своем искусстве, а потом становятся столпами, подпирающими этот порядок.