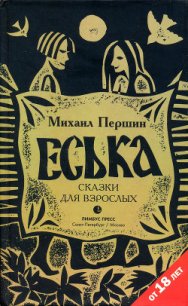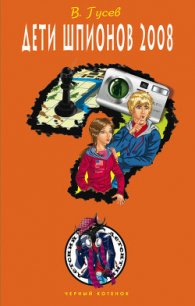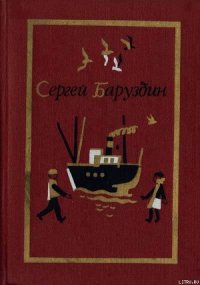Ворон на снегу - Зябрев Анатолий (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT, FB2) 📗
Дело наше состояло в том, чтобы до полудня управиться с захоронением тех, кого подвезли до рассвета, а после полудня до наступления вечера успеть надолбить новые ямы, потому что наступившей ночью опять будет такой же привоз щедрого урожая.
Пожилой бригадник Тимофей, старожил лагеря, говорит рассудительно:
– Оно, жись така. Кто знает, где, когда свернётся человек. До первой крапивы дотянуть – вот что надо. Кто до ранней крапивы дотягивает, значит, жить остаётся. Так всегда в зонах. Как крапива начинается, так мор исходит. Нынче-то вышло вовсе худо. Весна вишь какая. Затянулась, заблудилась в каких-то сторонах, в лесах, весна-то.
На руках у Тимофея белые, ещё неиспачканные, брезентовые верхонки, жена привезла. Он осторожно и бережно складывает рядком трупы на дне могилы, куда залазит первым. Следит, чтобы никто, никакой балабон не сбросил мертвеца сверху, а чтобы аккуратно подал ему в руки.
Ещё в бригаде отменный Онуфрин, коротышка, почти лилипут, но силой обладает могучей, лом через колено гнёт. Он успел побывать на подмосковных фронтах в качестве ездового солдата хозроты и осуждён по подозрению в сношениях с фрицами. Не то фрицы при встрече на лесной дороге угостили его сигареткой, не то он их – махоркой. Он-то, пожалуй, единственный, кто рьяно интересовался ходом событий на войне, будучи глуховатым, поднимал треух, когда бригада проходила через ворота КПП, где висела на столбе чёрная тарелка репродуктора, и весь начинал дрожать, особенно если сводку с фронта передавал Левитан. Другие если и интересовались, то как-то вяло, будто вопрос этот не так уж существенный для всех нас.
Рослый Тимофей и коротышка Онуфрин хоть и являли собой образец психологической несовместимости, – ссора меж ними постоянная, – тем не менее, всегда они рядом – и в колонне, и в работе.
– Кажись, ветер будет, – поглядев на небо, говорит Онуфрин.
Тимофей тоже глядит на небо и говорит обратное:
– Кажись, ветра не будет.
– Понимаешь ты много, – отвечает Онуфрин.
– Ты много понимаешь, – возражает Тимофей.
Наши выходы на похоронные работы затягивались, мы-то полагали, что на три, на четыре дня нас сюда перебросили с обычных лагерных коммунально-хозяйственных работ, а вот уж пошла вторая неделя. Действовал жуткий конвейер: лагерные бараки – лагерная больница – лагерное кладбище, разместившееся на высоте широкого, поросшего мелколесьем, холма.
Длилась технология в том же порядке: ночной, под покровом темноты, по хрусткому насту, завоз «груза» на санях, прикрытых соломой, взятой в местном колхозе; затем выход до света из зоны нашей бригады; затем размещение «груза» в наготовленные накануне могилы и рытьё новых могил. Кстати, в нарядах, которые бригадиру давались, и которые дядя Степан заполнял, так и значилось: «груз». Конвойные тоже называли: «груз». А сам факт захоронения назывался словом «размещение».
Так как бригада была поделена на звенья, и каждое звено исполняло своё дело на своём отведённом ему квадрате кладбищенского холма, то никто из нас не мог знать, каков счёт печальной жатвы, наступившей в результате выше уже сказанной причины.
Вороньё с каждым днём становилось нахальнее и безрассуднее. Одна старая неряшливая чёрная птица, возмущённая тем, что мы её отогнали, взмыла вверх и оттуда спикировала прямо на голову Тимофея, при этом горбатый её клюв был раскрыт, а в лиловом рту острым жалом дёргался треуголок белого устрашающего языка.
– Кыш, сатанинская сила! – отбивался не на шутку испуганный Тимофей лопатой. – Кыш, наваждение!
А ведь и верно, сатанинская, подумал я.
Онуфрин подбежал на выручку также с лопатой и подпрыгнув на своих коротких ножках, изловчился ударить птицу, отчего та испустила дух. Этот факт послужил зэкам на некоторое время психологической разрядкой, а для сатанинских птиц – шоковым моментом. Всё вороньё всей стаей отлетело и в этот день не возвращалось. Вороньё, это, по выражению Тимофея, бесово стадо, очень удивило своим умением приспосабливаться к обстоятельствам. Оно исхитрилось и стало налетать на холм ещё до нашего прихода, то есть, ещё по темноте. Поняли вороны, что с того часа, как тут появляются возчики, и до того часа, как появляемся мы, никого здесь нет, кроме шалых собак, лишь ветер истово свистит, разметывая пучками брошенную солому. А раз никого нет, значит, устраивай пир.
Мы всходили на холм с южного склона, и на сине-тёмном небе ещё держались россыпи звёзд во главе с Полярной звездой, а на фоне едва светлеющего неба – колья-столбики, торчащие вместо крестов, и на каждом колу по чёрной жирной птице сидело. Жуть какая!
Тупеет рассудок, когда среди «груза» узнаёшь знакомых. Вот Селезнёв, он вместе с тобой пришёл по этапу. Вот Ваня Метёлкин, вместе с тобой ходивший на разборку стылых капустных кочанов в поле. Слёзы не удержались в моих глазах, так и брызнули, когда увидел я Тарана Махмудова, его нельзя было не распознать в этой «поленнице» покойников, он, всегда отличавшийся южной смуглостью, в неживом состоянии сделался угольным, не помогли ему посылки с сушёными яблоками, присылаемые многочисленной роднёй из далёкого аула.
Очень я боялся увидеть тут и Мишу Савицкого. Я уже знал, что Миша из барака препровождён в больницу, пробовал сходить к нему, но вокруг больничного барака ходил охранник с овчаркой. Эпидемия дизентерии свирепствовала.
И вот я увидел…
Я отвёл взгляд, верить не хотелось.
Блекло-русые волосы на бумажно-белом затылке. Он лежал в куче тел вниз лицом, отвернувшись от всего мира. Его ноги были прижаты другим «грузом», и чтобы высвободить, потребовалось перекладывать других.
В этом мне помог Тимофей.
– Что? – догадавшись, спросил мужик.
Я не ответил. Подошёл Онуфрин, отставив лопату, он также стал помогать мне высвобождать Мишу из кучи. Остатки порванного домашнего белья раздувал и трепал ветер.
Могилку, в которую был опущен Миша – а в каждую опускали не меньше, чем пятерых, я обозначил столбиком потолще, хорошо ошкурил его лопатой – другие же столбики не ошкуриваются вовсе, они пилятся в зоне – приладил к нему перекладину-щепку так, что вышел натуральный крестик. Хотя делать кресты указаний бригаде не было, наоборот, указание бригадиру дяде Степану было – не делать. Дядя Степан заметил моё старание, но сделал вид, что не заметил.
Поздно вечером дядя Степан, придя из нарядной, где он, как обычно, отстаивал перед нарядчиками высокую бригаде хлебную пайку, а скряжистые нарядчики, как обычно, хотят урезать хлебную пайку, лежал в сушилке в своём тёмном закутке на топчане, говорил осевшим прерывистым голосом:
– Они-то, нарядчики, тоже не сволочи, нет. У них не свой интерес, а указание есть: экономить хлеб бойцам на фронте. Нам вот с тобой хоть что-то человеческое перепадает, под крышей спим, а они-то под небом, на открытой земле. Я бы пошёл туда, да рука калечена, не берут. Здесь воюю… с нарядчиками, хо-хо.
– Но теперь не надо будет урезать. Сэкономят. Вон сколько пацанов закопали. Кормить их теперь не надо. Экономия! – прорвало меня.
– Э-э, Толя. Э-э… – дядя Степан даже поднялся плечами, чтобы видеть меня во мраке среди сушащейся напревшей обуви. – Выкинь такие подсчёты из головы, выкинь. Очень худо жить человеку, когда он поддаётся настроению такому. Получается тупик. Вот ты нагляделся на блатяков разных, на урок. В тупике живут, в зоне или на свободе – одинаковый тупик. Злостью сердце обожгли, мозг сдвинулся. Вот, чтобы мозг не сдвинулся, не воспаляй его непосильными мыслями. А ты, вижу, пробуешь мыслить непосильно.
И насчёт креста на могилке… Крест он не снаружи – в душе. Понять надо.
Я вот тоже порой непосильно берусь думать и творить. Оттого и попал сюда… Мы, русские, отходчивы, но когда припрёт, звереем сильно. Немец, думаю, не такой. Оттого мы его побьём. Это правда – побьём. Против нашего народа никакая другая нация не выдерживает.
Я, плача в подложенный под щёку чей-то сырой обуток, от горя и жалости к потерянному другу Мише, плача, не слушал дядю Степана. Зачем о нации мне, о норове, когда я похоронил друга Мишу, славного Мишу, который так нежно ко мне тянулся и к которому я по-родственному тянулся. Зачем всё остальное мне.