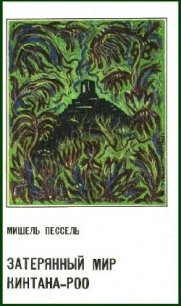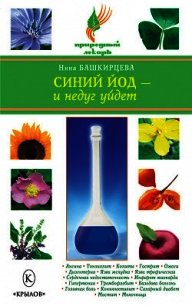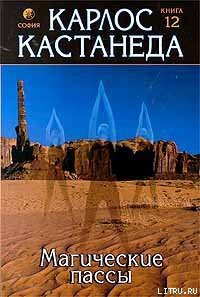Любовный недуг - Мастретта Анхелес (книги полные версии бесплатно без регистрации .TXT) 📗
– Предательница! – бросил ей Даниэль с порога спальни.
Эмилия в своей белой ночной рубашке засунула голову под подушку и укуталась в простыни. Она услышала голос Сальвадора, торопившего Даниэля, и заткнула себе рот кулаком, чтобы не просить его остаться.
Час спустя он шел по перрону станции Сан-Ласаро вместе с Игнасио Карденалем и еще двенадцатью священниками с бледными лицами. Сальвадор, сопровождавший их, замыкал процессию. На улице шел дождь, он с шумом стучал по крыше. Одетому в черную сутану с белым воротничком, которую он примерял накануне, Даниэлю не нужно было притворяться, будто он самый грустный и торжественный среди священников. Он смотрел в пол и шевелил губами, будто молился, когда Эмилия оказалась у него на пути и стала целовать его в губы, вцепившись изо всех сил в его сутану. Она была вся мокрая и тяжело дышала.
– Я хочу остаться, – сказал Даниэль Сальвадору.
– Не проси о невозможном! – ответила Эмилия, прижимаясь к его губам.
Поезд тронулся. Она подтолкнула Даниэля к вагону, из которого Карденаль протягивал ему руку. Дул ледяной ветер, и Эмилия вся дрожала, стараясь улыбаться из последних сил, слушая, как, постепенно затихая, исчезал вдали стук колес поезда под дождем.
Она еще неделю работала в госпитале, пока не умерли безнадежные, а излеченные не вернулись к жизни, в которой они ежедневно искали смерти. Жизнь в городе стала более спокойной, но вид этого города действовал на Эмилию угнетающе. Она тосковала по Даниэлю на каждом углу, в каждой улочке, в самом сердце безразличия, царившего на бульваре Пасео-де-ла-Реформа, перед выбитой дверью одной из церквей, сидя за столиком их первого кафе, погружаясь в пустоту ванны в доме, окружавшем ее своим молчанием, проснувшись среди ночи с губами, израненными о бриллиант ее обручального кольца. Она все время носила его во рту как вечное напоминание о своей вике. Предала ли она его? Можно ли назвать предательством простое нежелание возвращаться к неустроенности, к конфликтам, к утрам, полным безделья, к отказу от здравомыслия и плодотворной жизни, которая тоже была ее призванием и судьбой? Она просыпалась с этими вопросами, прорезавшими темноту, как лучи солнца, и так, ночь за ночью, ломались ее привычные биологические ритмы. Она позволила бессоннице воцариться в ее жизни и занялась изобретением всевозможных уловок, чтобы не дать тоске окончательно победить себя в долгие ночи без сна. Она снова играла на виолончели, которую Рефухио взял для нее напрокат в одной из церквей, читала главы из «Тысячи и одной ночи», брала ночные дежурства и писала письма, словно кто-то их ей диктовал. Кроме того, она вела подробный дневник, описывая в нем для Даниэля свои чувства, свою тоску, свои надежды и раскаяние. Когда-нибудь жизнь обернется для них такой щедрой, что у них обоих будет время посидеть и почитать, о чем она думала в это слепое время, которое она не уставала проклинать, но которое не поменяла бы на другое. Возможности просто последовать за ним и постепенно превратиться в его тень она предпочла потерять его. И, сделав этот выбор, она чувствовала себя одинокой, жалкой и высокомерной идиоткой.
Она снова сделалась жилеткой для слез. Она выслушивала и инфекционных больных, и женщин, сидящих у постели своих раненых, надеясь, что судьба сжалится над ними, и Рефухио с его страхами, и Эулалио, его внучку, которая чувствовала себя все хуже, но все лучше это скрывала. Она слушала без устали и без перерыва, пока не научилась чувствовать себя еще одной иголкой в стоге сена, уже полном иголок, где она нашла себе приют.
Однажды утром, в конце сентября, Рефухио пришел за ней. Его внучка, как обычно, надоила три капли молока от двух тощих коров, спавших вместе с ними в хлеву в Мискоаке. Она двигалась как абсолютно здоровый человек, но Рефухио видел, как половина ее души отлетела на рассвете, и безумно боялся потерять единственное, что осталось у него в жизни.
Эмилия пошла за ним и обнаружила ее в хлеву. Та делала вид, что спит возле единственного ведра для дойки. Ничего нельзя было поделать, только ждать кротко, как Рефухио, когда жизнь окончательно уйдет от Эулалии, упорно старавшейся выдать это за сон. Была уже ночь, когда она открыла глаза, и казалось, что они уже видят другой свет. Прежде чем начать долгий монолог со своим дедом, она успела сказать Эмилии:
– Не смей жульничать! Нельзя умирать раньше времени.
Ей купили белый гроб и отнесли ее на кладбище, оплакав как единственную среди множества упокоившихся в этот день.
Довольно скоро поезда снова начали перевозить гражданское население. Тогда Эмилия решила вернуться в Пуэблу. Оправдываясь тем, что ей нужно увидеть вулканы с другой стороны и что Красный Крест уже не так остро нуждался в ее услугах, она простилась с Консуэло и договорилась с Рефухио, что он приедет вслед за ней, как только сможет. А потом она села в поезд в неистощимом желании надолго уткнуться в колени того мира, который взрастил ее.
Она не стала сообщать о своем приезде. Опыт путешествий на поезде подсказывал ей, что ничего невозможно спланировать заранее, однако все прошло быстрее, чем она думала. Посреди еще зеленых и сочных октябрьских полей она потеряла счет времени, не замечая грохота и неудобств вагона, вконец истерзанного войной. Сойдя на станции, она прошлась по перрону, пустынному этим вечером, свет которого пробудил ее воспоминания, и они понесли ее к дому Ла Эстрелья, как ветер несет парусник к ждущей его бухте.
Аптека была еще открыта, когда она выскочила из наемного экипажа и побежала к двери, зовя во весь голос отца. Опираясь руками о прилавок, где перед ним лежала груда бумаг, Диего Саури широко открыл глаза, завороженный идущим ему навстречу видением, и назвал дочь по имени, словно ему нужно было услышать себя, чтобы поверить, что это была действительно она. При звуке его голоса Эмилии показалось, что он погладил ее рукой по голове. Прямо через прилавок она обняла его, рыдая и благословляя, с таким бурным восторгом, что Хосефа из своей кухни услышала веселые крики, как звон колокола. Она сбежала по лестнице, хотя не делала этого с тех пор, как в прошлом году упала и скатилась вниз. Она увидела их обнявшихся, глядящих друг на друга и не верящих, что это действительно с ними происходит.
Зная, что заплачет и станет как сумасшедшая, если позволит себе заплакать, что разлетится вдребезги, если побежит и начнет звать ее, Хосефа остановилась в дверях задней комнаты, чтобы сделать глубокий вдох и вытереть две слезы рукавом платья. Потом она свистнула, как раньше, когда ее дочка была еще маленькой и она встречала ее у школы. Услышав это, Диего выпустил Эмилию и стал смотреть, как она идет к Хосефе, почти не касаясь земли, словно в молитве.
Непокорная и прекрасная, еще более шумная, чем в лучшие свои времена, Милагрос появилась у них вечером с Риваденейрой, не потерявшим, несмотря на войну, ни крупицы своей элегантности. Они вместе поужинали, болтая обо всем и ни о чем, перескакивая с Мехико на Чикаго, со ссылки Даниэля на войну, эту мерзость и гнусность, с которой уже никто не знал, что делать. Они потратили часть своей жизни, чтобы разбудить страну, спящую под диктатурой, они хотели жить в обществе, где бы действовали законы, а не выполнялись прихоти одного генерала. Но результатом войны против диктатуры стала только война, а борьба против бесчинств одного генерала привела к появлению множества генералов с множеством бесчинств.
– Вместо демократии мы получили хаос, а вместо справедливости – палачей, – сказал Диего Саури с грустной иронией.
– Даниэль упорно верит, что такое количество смертей принесет хоть какую-нибудь пользу.
– Только если это не будет призыв к самоубийству других людей, пока еще живых, – сказала Милагрос, переживавшая каждое поражение как нанесенную ей рану.
Они говорили о том, что произошло с Эмилией, словно все это время были рядом, и о своих делах, словно она присутствовала при каждом событии. Эмилия рассказала им о Бауи, этой северянке, командовавшей в своей бьющейся в судорогах деревне, где они организовали импровизированный госпиталь, подражала ее манере ругать Даниэля за бесполезную спешку и ее насмешливому тону, когда она ему говорила: «Даже если ты будешь все время бежать, ты все равно умрешь в положенный срок». Она ходила от одного к другому, показывая массаж спины, которому научилась в поезде от старой знахарки. Она описывала Мехико в самый разгар катастрофы. Говорила о Рефухио и его неправдоподобной худобе, о его прорицаниях, о том, как он поженил их с Даниэлем в день, когда предсказал их расставание. Об Эулалии, штурмовавшей булочную, чтобы не остаться без анисовой булочки, о которой она мечтала больше трех ночей. Потом она пыталась передать глубокую религиозную торжественность, которую пришлось изображать Даниэлю, чтобы попасть в партию ссыльных священников, и как этот спектакль сорвался, когда она выбежала ему навстречу и поцеловала его.