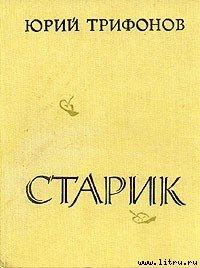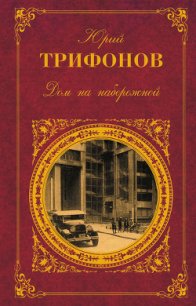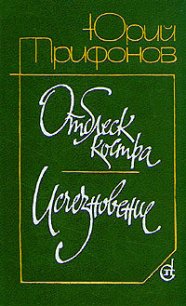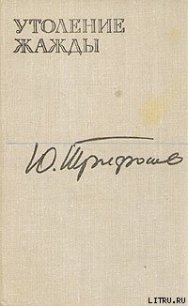Время и место - Трифонов Юрий Валентинович (мир бесплатных книг .txt) 📗
Время и место
На другой день после того, как Антипову исполнилось пятьдесят четыре, он полетел в Улан-Удэ, откуда поездом через тайгу и степи попал в Монголию, вышел на станции Дархан, там были кое-какие дела и малоинтересные разговоры, и через три дня – после того, как простился с майским холодом и нерасцветшими липами на Суворовском бульваре – сидел в юрте, на ветродуе, слушал шум песка, пил «сюте-цай», чай с молоком, излюбленный монголами и довольно бурдистый напиток, и разговаривал с хозяином юрты, с одним ученым из столицы и с одним стариком по поводу событии семисотлетней давности. Антипова давно интересовало: почему полчища покатились отсюда назад, поедая своими табунами степи, поглощая и омертвляя в лаве народы и страны! Старик сказал, что корень надо искать в религии – культе предков. Ученый из столицы, имевший лицо широкое и прямоугольное, как ведро, сказал, что причины лежат в социальных условиях. Хозяин юрты все объяснял изменением климата: перестали выпадать дожди, степь выгорала. Было отчаяние от голода и засухи. Антипов думал: «Далеко же забросило их отчаяние!» Ему чудилось иное: маета народа, освободившегося от бремени своей земли, своих городов, могил. Мысль об освобождении занимала его, освобождении от многого: от забот о детях, которые выросли, от ненужной мебели, от мук тщеславия, от власти женщин, эгоизма друзей, террора книг. Вернувшись в Москву, Антипов написал рассказ «Шум песка», предназначенный для сборника, но монголам рассказ не понравился и в сборник его не взяли, так что получилось, что съездил зря. На самом деле не зря. Вывез из Монголии какую-то пищу своей догадке. Рассказ «Шум песка» был напечатан в журнале. Уже пятый год, расставшись с Таней, Антипов жил в громадной пустой комнате в Мерзляковском переулке, в сердцевине старой Москвы, неподалеку от Тверского бульвара, неподалеку от всего, что составляло прежнюю жизнь, и друзьям было нетрудно навещать его, когда он болел и когда у них возникало такое желание. Но желание возникало у них нечасто. Да и друзей не осталось. Многие ограничивались удивлением: «Ты опять нездоров?» Он отвечал: «Что поделаешь! Возраст академический». И так он лежал третью неделю в одиночестве не то чтобы пластом, но полеживал, бродил в пижаме, сидел на балконе, ел на кухне за круглым столом, покрытым французской клеенкой с гастрономическим рисунком, давним подарком женщины, опять валился в постель с книгой – после очередной сердечной подлянки, настигшей его в конце июня, и настроение было хуже некуда. Хотя врачи говорили, что дело идет к поправке. Но промежуток между пиком болезни, проходившим в полубреду, и поправкой, к которой шло дело, – но шло тягостно, заунывно! – вгонял Антипова в такой мрак и запустение души, что все становилось немило. Не читалось, не думалось, не спалось, не смотрелся телевизор. Все это привычное, каждодневное, на что прежде не требовалось усилий и что было незаметною рутиной жизни, теперь достигалось только ценой напряжения, а тут Антипова не хватало, и он махал на свои попытки рукой, закрывал глаза, гасил свет. Мысли зарождались и меркли, это были какие-то обрывки, какая-то кожура мыслей, ничего существенного и глубокого он придумать не мог, а когда случайно натыкался умом на незаконченное сочинение, подобие душевной тошноты охватывало его, и он поспешно выключался, чтобы не стало хуже. Всякая мысль о работе была опасна, как резкое движение, как печальная весть. Ему сделалось, например, хуже в тот день, когда Марта Васильевна – старушка, приходившая готовить и убирать, она же доставляла лекарства и почту – принесла газету, где было объявлено о смерти Виктора Котова. Хотя за последние лет двенадцать особой дружбы не было, но известие о том, что Виктуара нет, ударило нестерпимо – так много было связано с ним радости, чепухи, надежд! – и Антипов заплакал, уткнувшись в подушку. Он знал, что Виктуар был ничтожное существо. Да разве, бог ты мой, в том дело? Он был частью жизни, и с его исчезновением омертвела и укоротилась какою-то долей его, Антипова, жизнь. В некрологе сказано: безвременно. Нелепое слово! Подразумевается: нежданно, без причин, без болезни, без предуготовленного и определимого срока, то есть б е з в р е м е н и. Скорее всего, разорвалась аорта от пьянства, а это всегда б е з в р е м е н и. Антипову захотелось непременно пойти на похороны, которые должны состояться через день, он почувствует себя лучше, сделает усилие, наденет темный пиджак и пойдет. Почти никого не осталось в старой орбите. Володя Гусельщиков ушел в непонятную область, в индийскую философию, Квашнин стал начальством, это было так же далеко, как индийская философия. Мирон уже пять лет обретался в Америке, его старики доживали на Солянке, и изредка в телефонной трубке хрипело полузадушенное: «Вчера получили письмо от Мирона. И фотографии. Он купил моторную лодку!» Первое время Мирон звонил часто. А сын Степан работал врачом в Алжире. Иногда прибегала дочь, приносила апельсины, какой-нибудь свежий журнальчик, казавшийся ей интересным, например «Театр». Еще реже бывала Людмила, которая хотела приходить чаще, да жизнь не пускала – она работала теперь за городом. А больше никто. Мать умерла. И вот кто чаще других: Маркуша! Загадочно, почему после всей тридцатилетней круговерти остался на поверхности этот несуразный тип, полысевший, голубоглазый, поблекший, но все еще румяный, крикун, балаболка, дитя улицы? Непонятно, чем он жил: то ли торговлей книгами, то ли игрой, то ли добротою слабого пола. Он существовал всегда, но всплывал вблизи временами, и так он всплыл в семьдесят седьмом, когда Антипов вздумал разделаться с библиотекой не потому, что были нужны деньги, а потому, что книги надоели. Маркуша разметал библиотеку в три дня. В шкафу осталось необходимое для жизни – таких книг вышло не более ста, – прочее полетело в тартарары, и Антипов вздохнул с облегчением. Он вздыхал с облегчением, когда от чего-то освобождался.
Ему давно хотелось написать про Маркушу. Хоть что-нибудь, пускай для себя, для памяти, лишь бы не залежалось втуне. Ведь таких персонажей, как этот уморительный обалдуй, знавший книгу гениально – мог на спор угадать название, когда книгу показывали обратной стороной обложки! – в Москве не осталось. Умер Левочка Марафет, сгинули Пат, Барин. У Антипова и название было приготовлено: «Ненужный гений». А какая прелесть отношения Маркуши с президентом Кеннеди! В шестьдесят первом, когда Кеннеди избрали, Маркуша ужасно взбудоражился тем, что президент так молод, бегал, схватившись за голову, и бормотал: «Чего ж я то сижу? Он уже президент, почти моих лет, а я где? Да зачем я, баран, жизнь прожигаю? Да разве он знает книгу, как я?» Возмущение собою и миром было неподдельно. Но через два года, когда Кеннеди убили, Маркуша ворвался в дом Антипова в неистовом раже и кричал, размахивая руками: «Ах, я умница! Ах, голова! Недаром один сказал: ты бы, говорит, был Спиноза, если б не играл. Да что ты! Люди от меня без ума! И вот он я живой, здоровый, на-ка, бицепс пощупай, а Кеннеди где?» Еще запомнилось и непременно должно было войти в сочинение о Маркуше высказывание его матери, с которой он прожил в подмосковной халупе всю жизнь и которая училась пению в Одессе у Макареску, а во время нэпа продавала на Арбате пирожки: «Все имеет свое время и свое место». Эта замечательная мудрость сидела в клокочущих мозгах Маркуши, как чудодейственная заноза, и порой охлаждала и укрощала его, особенно в дни, когда он проигрывал на бегах последнее. В прежние времена, когда Антипов собирал книги, он следил за Маркушей в десять глаз: тот мог снять внаглую с полки том и бросить в свой раздутый, бесформенный портфель, похожий на саквояж захолустного доктора, он выманивал нужные ему книги всеми правдами и неправдами, обманывал, плутовал и пытался иногда вырвать силой. Для борьбы с Антиповым сил не хватало, но каких-нибудь старушек, владелиц Данилевского и Понсон дю Террайля, он одолевал без труда. После исчезновения библиотеки Маркуша стал гость неопасный, однако и теперь он норовил сплутовать и как-нибудь Антипова объегорить: спорили на результаты футбольных и хоккейных игр, шахматных матчей, а то и сами садились за доску, по пятерке партия, причем Маркуша требовал себе фору в две легкие фигуры. Как для истинного игрока, для него не существовало таких понятий, как гордость, самолюбие, стыд, мир делился пополам: проигрыш и выигрыш. Одна половина не имела оправданий, другая могла оправдать все.