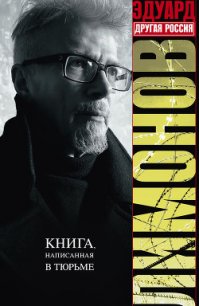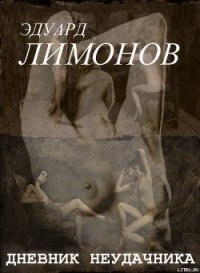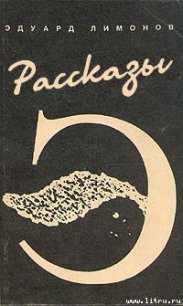Американские каникулы - Лимонов Эдуард Вениаминович (книги полностью .TXT) 📗
– Глазеете на малолеток, Поэт? Задвинули бы? – Ленька ухмылялся, довольный жизнью.
– А вы, Ленчик? Задвинули бы? – Я бессознательно перешел на его лексикон.
Ленька повернулся, скрипя синтетическим, непонятного происхождения плащом на меху, и разглядел панкеток.
– Нет, Поэт. Не моя чашка чая. Тощие, как колхозные курицы. Мне нужна жопа. Знаете песенку, Поэт? «Держась за жопу, словно ручку от трамвая…» – пропел Ленька и расхохотался, как видно, умилившись своей собственной вульгарности. – Я люблю их слегка переспевшими, Поэт! Вон – прекрасный экземпляр Машки! – Он указал на стол, за которым между несколькими седыми мужчинами, может быть, поэтами или друзьями поэтов поколения Гинзберга, сидела овалолицая тетка лет сорока пяти с блядовитым выражением полуоткрытого рта. Большой круп расширялся к сидению, как памятник расширяется к пьедесталу. – То, что доктор прописал! – чмокнул губами Ленька.
Ленька употребляет выражение: «То, что доктор прописал!» множество раз на день. В особо важных случаях он пользуется полной формой: «То, что доктор Фаина Абрамовна Кац рекомендовала». На вопрос, существовал ли в действительности этот фольклорный персонаж – доктор Фаина Абрамовна Кац, или же это собирательный образ советского доктора (во времена нашей с Ленькой юности большинство врачей в больших городах были женщины-еврейки), Ленька обычно лишь ухмыляется.
Гинзберг, пересекши сцену, браво спрыгнул и подошел к нам. На сцене юноши в разрезанных тишортс, в порезы белели девственно бледные городские тела, путались в проводах. Один из них, встав лицом к залу, зажал в руках электрогитару и несколько раз щипнул ее для пробы.
– Аллен, – Ленька приподнялся и стал снимать плащ. – Edward is very famous Russian poet and writer.
– Повторите, пожалуйста, вашу фамилию. – Гинзберг доброжелательно пошевелил губами цвета много лет назад давленой клубники.
Через очки его близорукие усталые глаза рассматривали меня со сдержанным любопытством человека, познакомившегося в своей жизни с десятками тысяч людей и забывшим фамилии большинства из них. «Без бороды он похож на бухгалтера из провинции! – подумал я. – Бухгалтер небольшой фирмы по продаже… ну, скажем, рефриджерейтеров. И не новых, но подержанных рефриджерейтеров. Но он ведь действительно из провинции, из штата Нью Джерси, из городка Патерсон. В Патерсоне жил другой их знаменитый поэт, Вильям Карлос Вильямс…» Я повторил мою фамилию. И спросил лишь для того, чтобы что-нибудь сказать:
– Давно вы знаете Андрея?
Ленька губами, глазами и руками делал мне знаки, которые я расшифровал без труда: мол, давайте Поэт, пиздите, знакомьтесь, делайте энергичные «паблик релэйшанс». Вы сидите с одним из «right people». Ленька был помешан на райт-пипл.
– Очень давно. Лет пятнадцать уже, по меньшей мере.
– Вам нравится то, что он пишет?
– Да. Очень. А вам? – Старый плут уловил в моем вопросе миниатюрный взрыв, маленькую революцию против.
– Мне? Мне его стихи совершенно не интересны.
Ленька не одобрял такого подхода к паблик реэлэйшанс, он выпятил губы и покачал головой.
– А почему, позвольте узнать? – заинтересовался Гинзберг.
Теперь уже и я сам не одобрял своего подхода к райт-персон и к паблик релэйшанс, но деваться было уже некуда.
– Видите-ли… – Сбежавшее с моих губ мне тотчас же стало неприятным, это нерешительное «видите-ли…».Я гордо прыгнул в океан. – Я считаю его стихи пустыми, трескучими и эстрадными, а самого Вознесенского – ловким манипулятором, умудряющимся там, в Советском Союзе, иметь имидж советского верноподданного, а здесь – имидж бунтаря и едва ли не борца против советской власти. Мне неприятен этот тип функционера от литературы.
– Есть такое русское выражение, Аллен, – вмешался Ленька: – «И рыбку съесть, и на хуй сесть».
Вот в таких вот ходах и заключалась Ленькина прелесть. Друг все же был для него важнее всех его жизненных принципов. Он мог тактично смолчать. Но он выступил против райт-персон на моей стороне. Публично.
– Верно, – просиял я. – Именно Андрей Андреевич Вознесенский. Существует более приличное выражение: «Сидеть одной жопой на двух стульях». Он – сидит. И может быть, все его литературное поколение.
«Уф, – подумал я, закончив. – Ну наговорил! Гинзберг ведь принадлежит к тому же поколению, и стихи его тоже эстрадные, и бунтарем его сегодня назвать трудно».
– И рыбку съест… – начал Гинзберг, улыбаясь во весь старый клубничный рот.
– То eat gefilte-fish and to seat on the cock in the same time, – голосом гнусавого учителя, округляя фразы, перевел Ленька.
Еврейская мама Найоми (в биографиях Гинзберга сказано, что она из России), может быть, учила Аллена немного русскому языку. Он опять повторил коряво, но по-русски:
– И рыбку…
– Аллен! – позвали его от сцены. Он встал.
– Я давно знаю и люблю Андрэя. Андрэй, как и я, как и все мы, – борется за мир в мире. Задача поэтов – охранять мир и способствовать сближению двух систем. Поэзия – это общий язык мира. – Гинзберг спокойно и вежливо улыбнулся и удалился, протискиваясь сквозь увеличившуюся толпу вокруг столов.
– Должны ли мы держать для тебя место, Аллен?! – крикнул ему вслед Ленька.
Гинзберг обернулся, губы раздвинулись.
– Да, пожалуйста, Леонид!
– Как он вывернулся из-под вас, Поэт, а? Ловко. Дипломат! Старая школа жульничества. Что вы можете сказать в свое оправдание, Поэт?
– Ни хуя, Ленчик. Что можно возразить против мира в мире? Кто его не хочет, а? Массовый убийца, сын Сэма [83] тоже, наверное, скажет, что он за мир, если его спросить.
– Заделал он вас, Поэт. Но ничего странного. Он не разозлился. Учитесь, Поэт, демагогии у старших товарищей. Очень-но пригождается это умение…
Ленька не добавил, однако, что доктор Фаина Абрамовна Кац прописала демагогию.
Сзади нас послышался топот многочисленных ног. Это впустили публику.
Столы от публики отделяли два плюшевых, цвета вишни канатика, соединенных хромированными зажимами, как в театре. У канатиков заняли места несколько мускулистых атлетов. Атлеты тотчас же приступили к своим обязанностям вышибал, немилосердно отпихивая отдельных индивидуумов, имевших неосторожность упереться пахом, ляжками или ягодицами в канатики. Ругань, смех, пьяный и трезвый виды смеха, перетаптывание… Толпа завозилась за нашими спинами.
– У них тут разделение на чистых и грязных, Поэт. – Ленька довольно оглянулся. – Мы с вами чистые, привилегированные, часть элиты. Что хотите пить, Поэт?
Я заказал виски, Ленька – пиво.
– Почему они тянут резину и не начинают? – Ленька поглядел на часы. Волосы на Ленькиной руке были густо-рыжие.
– Вы торопитесь, Ленчик?
– Нет, Поэт. Но я подумал, что, может быть, успею задвинуть шершавого знакомой леди…
– Гуд ивнинг! – сказал бородатый Тэд Берриган, ведущий вечера. Массивный, похожий на плохо завязанный и неполный мешок с зерном, он с треском, неприятно увеличенным усилителями, отвинчивал микрофон, поднимая его до уровня рта. – Сегодня у нас необычный вечер. Сегодня здесь, в «СиБиДжиБи», встречаются два поколения…
– Три! – закричали за нашими спинами.
– …совершенно различных по творческим средствам выражения. Я говорю о поколении битников и о поколении музыки новой волны, о движении, все чаще называемом «панк». Отцы встречаются с детьми…
– Деды! – крикнули от панк-столов. Смех прокатился по залу и умер. И опять, но уже в другом конце зала, крикнули: – Деды!
– ОКэй, – сказал Тэд Берриган, – я не настаиваю на отцах. Хочу только сказать, что несмотря на различие в возрасте, у нас, я думаю, обнаружится много общего…
– Давай «Пластматикс!» – закричали от самой двери. – «Б-52!» «Пластматикс!» Элвиса! Костэлло! Костэлло! Хэлл! – толпа выкрикивала имена групп, и мне стало жалко поэтов, оказавшихся, как я и ожидал, не в моде у сегодняшней публики.
83
Известный в 1977—1978 гг. массовый убийца.