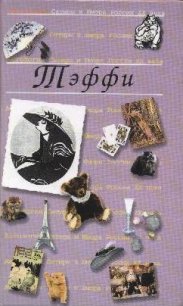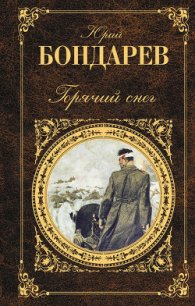Непротивление - Бондарев Юрий Васильевич (книги бесплатно без регистрации TXT) 📗
— Сестренка? Ты? Ну и ну! А это кто с тобой?
Они вошли в коридорчик.
— Привет, Мак, мы совсем неожиданно, соня праздный. Еле достучались. — Нинель, играя родственную строгость, чмокнула брата в щеку и представила Александра: — А это мой друг, познакомься, Максим.
— С удовольствием! И прошу прощения во всех смыслах! Без штанов представляться вроде не по светски! — спохватился Максим, открывая бесхитростным смехом чистые сахарные зубы, и тут же чрезмерно сильно пожал руку Александра, назвал свое имя, вслух повторил имя Александра и предупредил: — Отчество мое не обязательно. В моем солидном положении — это лишний довесок. Вас же разрешите по отчеству. Александр для меня фамильярно. Мне очень приятно познакомиться. Преклоняюсь перед фронтовиками. Вы что — лечитесь в госпитале?
— Что-то в этом роде, — ответил Александр. — И тоже прошу без всяких отчеств. И, если можно, на «ты».
Нинель с видом хозяйки отворила дверь в комнату и приостановила разговор:
— Мак, не держи гостя в коридоре и оденься наконец, чтобы гость не принял тебя за шалопута без царя в голове.
— За шалопута? Без царя в голове? Гениально и сногсшибательно! Но не в десятку. Надо бы — за беспортошного голодранца, прости за грубый реализм! — поддержал сестру Максим, не обижаясь. — Как тебе не пришло в голову такое великолепное определение? Проходите, гости, в залу, — по мальчишески сияя, как давеча, пригласил он и простер руку к двери.
— Не я придумала дурацкого шалопута, а ваш мудрый дворник, которого мы сейчас встретили. Оказывается, ты еще ходишь на бровях по ночам, — сказала Нинель, первой входя в комнату, и позвала Александра за собой: — Саша, здесь живет бесштанный голодранец, мой брат, о котором так образно говорил аристократ духа с метлой.
— А-а, дядечка Федор? — догадался Максим и проворно исчез за зеленой занавеской, отделяющей часть комнаты. — Раза два он меня видел под булдой, это справедливо и отвечает правде! Дядя Федор — особый, очень особый старичок. Он видит все человечество погрязшим в пороке, как в Содоме и Гоморре. Халда! Видели, какая у него косенькая улыбочка? По ночам читает Ницше и Шопенгауэра под одеялом. Боится, скалкой помнет бока старуха за трату электричества не по лимиту! — крикнул из-за колыхающейся занавески Максим. — Ясейчас! Сестренка, посмотри на левую стенку, над печкой, там — новое, ты еще не видела!
Глава седьмая
— Знаешь, мне всегда нравилось у Максима, — сказала Нинель, прослеживая за взглядом Александра, оглядывающего комнату с молчаливым вниманием человека, еще не попадавшего в такую обстановку. — Здесь какая-то свобода, понимаешь? Все просто и все таинственно. Я никогда не пойму, как все это делается. Вот, посмотри сюда, на новое. Боже, как грустно!..
Она повернула его лицом к картине, и он увидел кровавый, придавленный тучами закат, под ним сгоревшую деревню, повсюду черные скелеты печей, среди этого разлива крови черные ветки обугленных деревьев, на дороге исковерканное колесо, вдавленное в колею, наполненную водой, отражавшей мрачную багровость заката, и над всем этим кладбищем траурным комом выделяется на сучке ветлы одинокий ворон, как будто адский сторож пепелища и гибели.
От картины дохнуло тоской умерщвленной земли, какую много раз видел Александр, этим же ощущением одиночества обдала его и другая картина, висевшая рядом. Ночь, осень, ветер, при сильном порыве гнулись, схлестывались голые ветви берез у обочины шоссе, ударяли по ослепительному диску полной луны, по раскаленному куску металла в небе, загроможденному грозно ползущими на луну чернопепельными тучами, а внизу на пустынном шоссе мчится заброшенная от всего мира санитарная машина, тускло протянут по морщинистым лужам свет приглушенных фар.
— Ты сказала, что твой брат не воевал, — проговорил Александр. — Откуда он это знает, Нинель?
— Спроси у него сам, — ответила она и показала бровями: — Вот сюда посмотри. Наверно, тоже война, по настроению.
На картине — две человеческие фигурки, глядя куда-то вверх, стояли под звездами посреди ночного двора подле нарубленных дров, низкие тучи дымом неслись над крышами. Во дворе ни огонька, на стеклах смутно белеют кресты наклеенной бумаги. Темно, пусто, тревожно.
— Да, похоже на войну, — сказал Александр. — Твой брат любит рисовать тучи. Я почему-то на войне так отдельно туч не замечал. Важно было одно: светлая ночь или темная.
Из-за отдернутой с треском занавески вышел Максим, одетый в клетчатую рубашку, в широких брюках, запачканных краской; на фанерке, заменяющей поднос, — бутылка, стаканы, кусок сала в замасленной бумаге, батон белого хлеба. Он решительно отодвинул книги и папки к середине стола, поставил поднос и, видимо, услышав последнюю фразу Александра, продекламировал:
— «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь темна». Война — это бесовство, кровь, мужество и полный идиотизм. Я с двадцать седьмого. Не успел. Жаль, конечно, но… Садитесь, друзья. Закусим по-студенчески. Можно с самогоном, купленным на Даниловском, можно и без самогона, с чаем, купленным по карточкам. Прошу садиться в кресла русской аристократии былых времен. Мебель моя не в чиппендейльском стиле. О, нет! Но гарантирую: грохнуться, ляпнуться, сверзиться с нее никак нельзя, сам чинил ножки, сам реставрирую.
Он ловко пододвинул к столу видавшие лучшую пору ободранные кресла, включил электрическую плитку на тумбочке, кинул на закрасневшие спирали чайник и, почесав грубоватыми пальцами в пшеничных волосах, повернулся к Александру, словно вспоминая:
— Вы что-то сказали насчет моих попыток…
— Мы договорились на «ты».
— Ты что-то сказал насчет войны и туч. Понятно: войны поблизости я не видел. Объяснить невозможно. Но война связана у меня с надвигающимися тучами, с ночью, одиночеством перед смертью, с пустотой. Вот у японцев есть понятие «моно-по-аварэ» — скрытая прелесть вещей и событий, исконная печальная тонкость. О, достичь бы этого! Ухватить бы эту таинственную прелесть! — выговорил Максим, и глаза его стали мечтательно-доверительными. — Вот тогда и рождаются шедевры! Не поймал! Не ухватил!
Без желания возражать этому располагающему к себе любопытному парню Александр все же сказал:
— Пожалуй, не очень верно для войны. Скрытой прелести, печальной тонкости не было. Тучи, закаты и звезды по-настоящему замечали только во время отдыха или на формировке, где-нибудь в тихом селе. На фронте это проходило мимо. Например, небо воспринимали так: летная погода для немецких самолетов или нелетная.
— Пугаюсь хулы и похвал боюсь, а ты критикуешь из ряда вон потрясающе! — воскликнул Максим и принялся такими энергичными нажимами нарезать черствый хлеб, что стол заскрипел и зашатался. — И тем не менее позволь задать несколько вопросов. Скажи, все лебеди белые?
— Пожалуй, да.
— А если вдруг в стае летит черный лебедь, что подумаешь тогда?
— Подумаю, что среди белых есть и черный.
— Ну, а если увидишь лебединую стаю всю черную, что тут скажешь — все лебеди черные?
— Наверно, скажу: большинство — белые.
— Вот это есть что-то вроде математической индукции. И это очень похоже на искусство. Должно, не очень понятно, что я тут умно-глупо наквакал?
— Не очень.
— Что ты! Абсолютно понятно. Это же банальщина, азбучная истина! Наши знания — полумиф, полуложь. Мы даже не знаем, почему человек чихает. Мы знаем, отчего останавливается сердце, и не знаем, отчего оно бьется. Что мы знаем вот об этой пыли? (Указал на мельчайшую пыль, толкущуюся в. протянутом через комнату луче света). Не больше, чем она о нас. В белом черное, в черном белое. В утверждении «да», наверно, гнездится «нет». И так далее, и тому подобное. В данном случае: белизна — мысль, дух, идея. Без белизны лебедь не лебедь, без духа — искусство чепуха. И тут же черное. Почему? Чем объяснить? Откуда оно? Тайна. Загадка. И еще раз тайна. Древних Афин нет, Сократ не подскажет, а вся мудрость мира родилась там. Вот существует добровольное рабство — высиживание птицей яиц и самоотверженное выкармливание птенцов. Это прекрасно, это вызывает у меня восторг! Я пошел в добровольное рабство, надел не по силе кандалы: хочу поймать отсвет тайны… Помнишь, как в детстве мы ладонью ловили солнечный зайчик! Нет, это черт знает что с бантиком слева, когда подумаешь, как цветом передать, что чувствует иногда человек! Импрессионизм бессилен. Представь: ночь, лунное море, тишина, сверчки и далекий рокот одинокого, заблудившегося в ночи самолета… Так, вроде пустячок. А от этого пустячка однажды на юге, после войны, до жути грустно мне было и до жути радостно. И мечтать хотелось: где-то ждут, тоскуют, любят, кому-то я нужен. Такое не посещало?