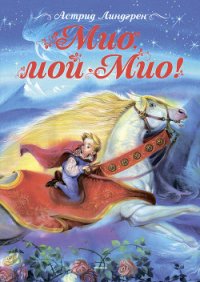Земля воды - Свифт Грэм (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
Дик прикладывает бутылку (изящную бутылку, темно-коричневого стекла, с зауженным горлышком) ко рту и пьет. Откуда я это знаю? А оттуда, что я спрятался на другом берегу реки, за кромкой дамбы. (Но как так вышло, что младший брат пошел учеником в шпионы, подмастерьем в сыщики?) Дик пьет – всю бутылку одним залпом. Но сей магический акт не вызывает маму, встрепенулись-отряхнулись, чур-чура-я-жива, из реки. Хотя эффект выходит весьма экстраординарный…
Или возьмем тот, другой раз, на берегу Хоквелл-Лоуда, когда, после известных публике чудес подводного плавания, после известных опять же и весьма примечательных физиологических реакций, Фредди Парр берет угря (н-да, есть что-то особенное в этой склизкой твари) и… И Дик посмотрел на Мэри, а Мэри глянула на Дика… Неужто сей момент канул бесследно в амнезическом тумане Дикова рассудка? Нет, он плавает свободно, он отдается эхом. Ибо – что Дик берет себе в привычку, начиная с того памятного июльского дня 1940 года? Он берет себе в привычку слоняться вокруг и около Мэри Меткаф, пусть даже и на почтительном расстоянии. Он прячется где-нибудь в Хоквелле, невдалеке от станции, перед тем как прибудет четыре двадцать четыре из Гилдси, привезя положенную партию отучившихся на сегодня школьников и школьниц, в том числе одну в ржаво-красном платье с красным святым сердцем на левой груди. Он бродит вокруг и около дороги, по которой ходит из Хоквелла в Полт-Фен некая особа. И, будучи допущен в круг прочих хоквеллских подростков (ибо с того самого дня, у Лоуда, у нас возобладала тенденция воспринимать его не столько с прежней терпеливой снисходительностью, сколько с подозрительным, выводящим его за все и всяческие скобки уважением), он дарит Мэри, если и она оказывается в общей куче, такие же долгие, сбивающие с толку взгляды.
Итак, в тот самый период времени, когда расцветающая пышным цветом, но невинная доселе страсть юного Тома пробивается сквозь первые, застенчиво-наивные, железнодорожно-вагонные стадии, другая живая душа, не больше и не меньше как душа его родного брата (вот уж повод для ревности), также страдает и томится. С той разницей, что юному Тому хорошо известно, что его печалит (хотя, по правде говоря, смелости у него от этих знаний не прибавилось), в то время как брата мучит тяжкий недуг неизвестной науке породы. Бедняга даже и понять не может, от чего страдает.
Или, по крайней мере, есть такая точка зрения. Поскольку все эти долгие, чреватые смыслами и переменами смыслов месяцы я не замечаю и следа предполагаемой Диковой влюбленности. Ну да, конечно, время от времени он околачивается в окрестностях хоквеллской деревенской школы, когда я возвращаюсь (и Мэри Меткаф тоже) домой из школы. Но ничего особенного я тут не вижу. О печальном положении Дика мне рассказывает лично Мэри Меткаф. И, ясное дело, ничего подобного она не могла мне рассказать, пока отношения наши не достигли той степени близости, при которой подобная откровенность только и возможна, не достигли, проще говоря, сочной, зрелой стадии времен ветряка. А Дик к означенному времени уже успел устроиться помощником на «Розу II» и вроде бы с головой ушел в свой мотоцикл. Значит (целый год, и даже больше года), одно из двух: либо Дик был куда хитрей и осторожней, чем казалось, либо же – но разве я думаю об этом, покуда Мэри раскручивает сагу о тайной жизни моего собственного брата? – правду, может статься, надо искать не в том, что говорит Мэри, а в полной противоположности ее словам. Может статься, это вовсе не Дик на странный этакий манер, но притом весьма настойчиво преследует Мэри, а не кто иной, как Мэри, жаждет поближе познакомиться с Диком, и в ловкости ему с ней не тягаться.
«Ты помнишь – конечно, помнишь – тот день, когда Фредди взял этого угря и…»
(Покуда огромные голубые глазищи летнего неба смотрят вниз, на наше любовное гнездышко; покуда солнце играет на медяно-рыжих волосках…)
«Эх, он был и здоровенный, правда? Да нет – не угорь. – (С поддевкой, но и с любопытством): – Наверное, раза в два больше, чем этот вот…»
(Покуда жужжание насекомой мелочи сливается с коровьим смачным хрумканьем…)
«Какой он? Расскажи. А твой отец или мама никогда не… Ему ведь, наверное, так одиноко, да? Неужто тебе его не бывает жаль?..»
(Покуда шелест тополей…)
«Бедный Дик».
«Ага, бедный Дик».
И правда, меня это трогает – трогает, как только может трогать младшего, но оделенного сверх должного судьбой сына, как только может трогать любовника, уверенного (уверенного?) в своей любимой на все сто, – образ моего одинокого и осененного тьмою брата. Лишенного не только разума и образованности, но и прочих состоящих под охраною ветряных мельниц благословенных даров судьбы. Он должен знать, он должен учиться. Если и не тому, как складывать слово к слову на листе бумаги и претворять их в речь, так хотя бы этому, иного рода волшебству.
Молодая любовь, молодая любовь. Как же ей невмоготу оставаться простой и невинной. Как ее тянет расправиться из края в край и возвестить свою – единственную – правду. (Потом она усыхает и съеживается. Потом она становится пугливой и вьется сама вокруг себя, словно боится вот-вот исчезнуть…) Но молодая любовь, свежая любовь, первая любовь – как ей хочется все и вся объять, как жаль ей всех лишенных ее нехитрой панацеи…
Таков был и я, в открытом нашем, над лоудской водою будуаре, покуда где-то вдалеке мир слагал свою хронику великой войны, покуда Мэри рассказывала мне о вдовом своем отце и о сестрах из Св. Гуннхильды (как же непросто быть маленькой Мадонной), а я рассказывал Мэри о моем, с искалеченной ногой и тоже вдовом, отце – и разве же я мог не сострадать берущей за душу повести о страданиях собственного брата? (Как наша зависть, покаявшись, разрешается во милосердии.) И разве Мэри могла не признаться мне, что даже до того дня, у Лоуда, если уж честно, если совсем напрямую, ей было – любопытно? И, сложивши воедино эту жалость и это любопытство, разве могли мы не составить плана?
«Ага, бедный Дик».
«Бедный Дик, что же ему остается, кроме мотоцикла».
А если вы добавите к жалости и любопытству малую толику страха – ибо Мэри-то покаялась еще и в том, не без привкуса этакой возбужденной, восторженной дрожи, что, кроме того что ей любопытно, она еще чуть-чуть, самую малость… а я сказал (такой уверенный в себе), что Дик и мухи не обидит – то вы получите уже не план, вы получите то запутанное черт-те что, из коего родятся истории.
Итак, вот вам история о том, как Мэри, при помощи и всяческом содействии Тома, взяла на себя Диково образование, столь грубо прерванное в недавнем прошлом. Его образование в области чувств, сиречь наставление в делах сердечных. Вот вам история о том, как Мэри пыталась учить мычащего монстра, доставшегося мне заместо брата.
Или, напротив, о том, как свойственное Мэри любопытство…
Или, напротив, о том, как малая толика знаний…
Это история Мэри. Я слушал ее с продолжением, после обеда, по понедельникам и четвергам, все лето 1943 года. В то время как по средам и субботам, после ужина, а иногда еще и по воскресеньям…
Это история Мэри, сведенная воедино и истолкованная мной. И выходит, откуда мне знать, как оно на самом деле?..
По свидетельству очевидца, Дик, съезжая каждый второй вечер с дороги Гилдси – Хоквелл, чтобы сделать крюк по проселку, идущему на север вдоль Стоттовой дрены, с тем чтобы доставить к нам домой в виде мешка с живыми угрями то самое, что в нелегкие дни войны, во-первых, составляло основу обычного нашего меню, а во-вторых, служило источником левого заработка, не только проверял верши и складывал улов в мешок. Он, делая скользкое это дело, не спешил. Он даже прерывался иногда (а «Velosette» стоял тем временем на страже), чтобы посидеть и поглядеть в реку, на манер, который только и можно охарактеризовать как задумчивый, если не отрешенный. Как если бы он все еще думал – хотя ее уже шесть лет как не было на свете – о своей исчезнувшей маме; или, весьма вероятно, о другом объекте, столь же чарующем и женственно-манящем.