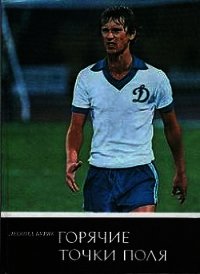Русский лес - Леонов Леонид Максимович (читать книги онлайн бесплатно полные версии txt) 📗
— Объяснитесь... поподробнее, — запнулся тот, как в шахматах передвигая пузырьки на столе.
— Насколько я сам разбираюсь в этом... мне всегда казалось обывательским ваше сравнение лесов и добываемого в них сырья с капиталом и рентой. Лес есть сумма производительных, а не производственных сил... Его можно назвать капиталом лишь в случае, когда он становится средством эксплуатации людей.
Туляков так и рванулся было к нему через стол:
— По-моему, в таком виде ваша формула равным образом бессмысленна. Производительные силы потому и производительные, что проявляются в производстве В чем глубокомыслие вашего противопоставления? — Он запутался сам и рассердился. — И вообще, смею напомнить вам, мой не слишком молодой и недостаточно вежливый проситель, что ещё в первом томе своего Лесоустройства, задолго до того, как вы появились у меня на кухне, я уже цитировал Маркса и даже получал шейное воздаяние от надлежащего начальства.
— У вас это звучит так, словно вы именно и открыли Маркса для русских лесников, — отвечал Вихров, еле удерживаясь от прихлынувшего задора — Я до сих пор помню ваши благодеяния и вовсе не хочу обидеть вас подозрениями... но неужели Туляков способен требовать одобренья своих очевидных ошибок в качестве благодарности за те пособия, которые он регулярно посылал мне в студенческие годы? — Он по возможности бегло произнес эту, внезапно осенившую его догадку, и хозяин даже не пытался опровергнуть ее. — Мне только хотелось предупредить вас, учитель, что небрежное пользование высшей экономической математикой может завести вас в довольно безрадостные дебри.
— Это... угроза?
— Нет, но стремление удержать крупнейшего русского лесовода от повторного паденья, таким образом.
Серые, заросшие щеки Тулякова налились краской:
— Итак, вы читали ту мою... действительно ужасную брошюру?
— Да, — складывая свои записи, сухо заговорил Вихров, — и мне, видавшему вас когда-то в таком блеске, было грустно читать вашу браваду, объяснимую лишь непонятным мне озлоблением. Сперва я собирался писать вам открытое письмо, но решил, что будущая моя книга будет лучшим ответом. Не сердитесь на меня, я друг ваш... Я всегда считал ваши книги лесной классикой, и неприличный тон мой объясняется не столько дурным воспитанием... а прежде всего опасением за их дальнейшую теперь участь. Таким образом, на вашем месте я обошел бы книжные прилавки России и скупал бы, на последние гроши скупал бы свое злосчастное изделье вот для этой железной прорвы, — кивнул он на печку, — скупал бы, пока юное поколение не подросло. Чего же вы перепугались в революции — вы, сколько мне известно, крестьянский сын, подзабывший своих темных вологодских родичей? Ступайте пешком по стране, в армяке, если потребуется, прислушайтесь к гулу пробужденья в русском лесу, постарайтесь проветриться на этом бодрящем ледяном сквозняке. Да, вы очень больны, учитель. — Он встал, полагая сказанное достаточным для своего немедленного изгнанья, которого не последовало; это подбодрило его. — Слушайте-ка, я бы мог сразу захватить вас с собой на Енгу... хотите?
— Ну, знаете ли... до сих пор никто ещё не пытался лечить меня подобными прижиганиями, — растерянно вставил Туляков, не находя в себе сил для раздражения.
— А вы не задавались вопросом, профессор, почему же прочие воздерживались от этого лекарства?
Кажется, Вихров намекал на свойственную людям этого круга интеллигентскую деликатность, не позволяющую огорчать последние минуты старости, в то время как по моде, века принято было не щадить их. Значит, прочие примирились с бесславным концом Тулякова, и кухаркин сын был первым, применившим огонь для его воскрешения к жизни. Тут оба они слегка умилились; старик неожиданно похвалил в госте высокое понимание взаимной гражданской ответственности, выраженное Вихровым в образе веревки, какою связываются люди при восхождении на вершину недоступного иначе ледника, когда нельзя ни упасть, ни уклониться в сторону без того, чтоб не расстроить порядок движения... Их глаза встретились. Туляков понуро побрел к окну, где внезапно возникла дробная уличная перестрелка.
— Я мог бы объяснить, как это получилось у меня, — глухо сказал он, разглядывая что-то сквозь оплывший ледяной натек на стекле, — но боюсь, что, пока не устроится новый порядок, никто и слушать не станет длинных туляковских рацей по личному поводу, а потом... потом все равно станет поздно.
— Отойдите от окна, Николай Фомич, — сказал Вихров после второй пулеметной очереди.
— Вы правы, молодой человек, люди трагически мало знали... и вчерашние всегда будут знать трагически мало. Это горько для живущих... но было бы хуже для прогресса, если бы действительность приводила нас к обратному заключению, — продолжал он раздумывать вслух. — Да, вы правы, я настолько постарел и несправедлив к жизни, что уже не очень уверен в своем моральном праве на кусок хлеба из будущих урожаев, а это, естественно, озлобляет... Но вы правы самой беспощадной правдой на земле, правдой честной и непримиримой молодости. По утрам всегда представляются наивными сомнения сумерек. Во всяком случае, не пожелаю вам в моем возрасте выслушать такое от способнейшего из ваших учеников... про возраст, армяк и браваду. Кстати, она при вас... моя брошюрка?
— Нет, она осталась дома, в лесничестве.
И тогда Туляков придумал несколько неожиданную форму благодарности за полученное от Вихрова удовольствие. Он предложил выкупить вихровский экземпляр осужденной статьи и, как бы на соблазн продавца, принялся выгружать из стола перевязанные папки скопленной за десятилетья архивной всячины; поступавшее позже было просто засунуто под тесемку. В глазах Вихрова цены ей не было, той бумажной рухляди, тем более что в одной из связок оказалось несколько неразборчивых тетрадок туляковского учителя — беглой лесной хроники, позволявшей проследить свертыванье зеленого коврика в Европейской России. Видимо, копя этот материал, Туляков и сам когда-то собирался заняться вихровской темой, но все откладывал, подобно исповеди на смертный час, и теперь расставался со своим кладом без сожаленья, как лесовод уступает преемнику любимую, не достигшую спелости рощу, — даже со стареньким чемоданом в придачу для доставки на вокзал. В разговорах о лесе они просидели до сумерек. Старик торжественно зажег огарок свечи, последний в стране, по его мнению; свечей уже не продавали, их приходилось доставать. Вихров ушел, когда стеарину там оставалось всего на десяток минут.
— Забирайте же эту вязанку опавшего хворосту, — на прощанье сказал Туляков про чемодан. — Никто ещё не уходил из лесу с пустыми руками. Любите лес, молодой человек... Да смотрите, ручка у чемодана не оторвалась бы.
— Ничего, я случайно бечевку с собой прихватил, — отвечал Вихров.
По молодости он не понял ни призыва к благородству судей, ни самоубийственной тоски, заключенных в этом даре, не поинтересовался даже, почему Туляков сам не использовал этот материал, одной публикацией которого, с комментариями, конечно, мог бы поправить свою репутацию в глазах современников тридцатых годов.
То было редкостное собрание документальных улик против разорителей русского леса. Наравне с такими жемчужинами, как расплатные ведомости с рабочими, запродажные нотариальные договоры, банковские иски к разорившимся лесовладельцам, даже копии сенатских актов о нашумевших в девятнадцатом веке лесных тяжбах, — попадались и не менее ценные бытовые материалы, относившиеся к частной жизни лесопромышленной буржуазии: их сплавные и лесорубочные билеты, их интимная переписка, скандальные газетные вырезки об их ночных шалостях в столичных кабаках, рваные меню обедов и на баснословные суммы ресторанные счета и, между прочим, перл коллекции — пачка полуграмотных записок залетной кафешантанной канарейки Жермены к известному Кнышеву, верно, за полштофа и через подставное лицо выкупленных у пропойцы. Именно эти опавшие листья эпохи, как правило, бесследно истлевающие к приходу историка, помогли впоследствии Вихрову в довольно выразительных картинках показать распыление национальных богатств по карманам тунеядцев, а документацию обвинительных глав довести до степени вещественных доказательств... Все вместе и предопределило успех Судьбе русского леса; гражданский гнев, вызываемый наглядностью преступления, придавал вихровской книге качества разящего булата против свергнутого класса, в чем так нуждался тогда молодой и ещё не окрепший строй. При последующем разгроме книги Грацианский, естественно, воспользовался упомянутым в предисловии подмоченным именем Тулякова, предоставившего автору тот щедрый дар.