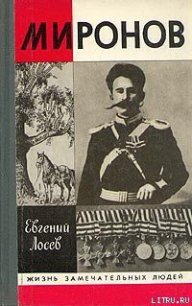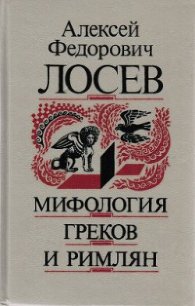Картина - Гранин Даниил Александрович (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
После разрыва с Антониной уверенность в себе пропала. Впервые женщины предстали существами сложными, опасными. Он перестал ценить свои краткие победы. Никакие это не были победы, в сущности, он никогда не завоевал сердце женщины. Из того, что они ложились с ним в постель, не значило, что они любили его. Вполне возможно, не он, а они играли им, получали его, когда сами хотели, и оставляли… В Москве он еще раз убедился, что не понимает женщин. Произошло это с Галей, крымской его знакомой, рослой, чрезвычайно активной девицей, которая в первый же вечер после танцев, когда они остались вдвоем, предложила спуститься на пляж и купаться голыми. Она была кандидатом химических наук, лихая на язык, знающая все обо всем и обо всех, типично московская дамочка. Приехав зимой в Москву, он встретился с ней в гостинице, и она пригласила назавтра к себе. Он приехал, ни о чем не подозревая, она открыла дверь, чмокнула его в щеку, ввела в комнаты, где была какая-то пара и высокий блондин с доверчивым приятным лицом. Звали его Олег, оказалось, что он муж Гали. Она знакомила их, прикусив улыбку. У Лосева хватило выдержки не смутиться, даже на гитаре сыграл, завязал с Олегом разговор о причинах пьянства, поскольку Олег занимался психологией. У Олега на сей счет имелись остроумные идеи. Слушая его, Лосев казался себе провинциалом — и статью недопека, и умом недотыка. Чего Галину завело, какого рожна ей не хватает? Снова и снова женская натура ставила его в тупик.
На следующий день она явилась к нему в гостиницу, как ни в чем не бывало, в новом парике. Лосев спросил, зачем ей понадобилось вчерашнее представление. Она рассмеялась: друг дома — всегда считалось пикантным, создавало остроту. Но у Лосева маячил Олег перед глазами и прикоснуться к ней он уже не мог.
— …Сказать, с чего я стихи полюбила? В меня студент-практикант влюбился. Я тогда в десятый класс перешла. Он уроки истории у нас давал. Я была той девочкой. Теперь я это по-учительски понимаю. Трудновоспитуемой. У нас была компания будь здоров. Каждый вечер я с ними. Студент этот клеился ко мне с большой силой. Чем-то я его привлекала. Я ему говорю, достань мне жвачку или хипповую сумку — торбу — тогда посмотрим. Я прежде всего хотела наших мальчиков поразить. Приходит он к нам на торчок и, представляете, приносит мне цветы. Это смешно в той обстановке. Я озлилась, что мне с вашими цветами делать, говорю, у нас цветов полный огород. Ну уж я над ним покуражилась, все ради публики старалась и выкинула их. А там, в букете, стихи были. После их нашли. Хорошие стихи. Я читала и плакала. Никто больше мне цветов не дарил. Ученики только в день Восьмого марта приносят…
— Я тебя давно хотел спросить — почему ты заплакала, когда у меня в кабинете картину увидела?
— Ох, лучше не надо об этом.
— Не надо, так не надо…
— А ты что тогда подумал?
— Я, честно говоря, подумал — блажная. Нельзя из-за картины плакать.
— Я не от картины. Я над собой плакала… В училище я мечтала художником стать. Много писала. Меня хвалили. У меня было не хуже других. Я чувствовала, что все это не то, не то. Чего-то не хватает. Утешала себя — придет с возрастом, нужен опыт жизни, культура… В учительницы пошла, но все же втайне не теряла надежды. А когда увидела астаховскую картину, я все поняла. Ведь я этот вид сколько раз писала. Мои утешения, что учителя у меня были плохие, что мне что-то откроется, все рухнуло. Я недостижимость поняла. Всю разницу между посредственностью и настоящим талантом… Нет, нет, не бойся, это уже не слезы, так… Я рада, что так получилось. Астахов мне помог. У меня и раньше, как смотрю великую картину — тоска нападала. Счастье и одновременно тоска. И руки опускаются. Я часто думала об этом. Теперь поняла — это тоска от совершенства. Видишь, как ты мала. То, что зрело в тебе смутно, неосознанно, уже существует. Оно сделано. Твоя мечта. Твои сны. Значит, то несостоявшееся, то, не возросшее в тебе, — убито. Я сразу увидела, что вот так надо было написать дом Кислых, только так, это моя картина… Хотя что-то в ней кроме того еще есть, какой-то дополнительный секрет…
— Все-таки почему ты отказалась перейти в музей?
— А мне в школе сейчас хорошо. И экскурсии, и кружок. Я ребят люблю.
— Надо вперед смотреть. Так и будешь учительницей?
— Ты как моя мама.
— Ты про будущее думаешь?
— Не думаю, а мечтаю.
— О чем?
— Неважно… Пока мне хорошо, я не хочу ничего рассчитывать. Перестанет быть хорошо — уеду.
— У человека должна быть цель, идея жизни. Ведь ты учишь ребят идти вперед. Мне казалось, что работа в музее это рост, перспектива.
Она потянулась, погладила себя по бедрам. Лосев что-то еще говорил про способности, а она, тихо смеясь, прижалась к нему.
— Выше этого ничего нет и не было, — затуманенно говорила она. — И быть не должно.
Самоуверенное «не должно» — поразило Лосева. Все его воспитание, вся привычность его суждений возмутились, и в то же время втайне, со сладким стыдом, он признавался себе, что да, так оно и есть…
Как ни крутись, личная жизнь для большинства людей, которых он знал, в конце концов была самым главным. И для него самого. Потому что жизнь, которую он вел после ухода Антонины, которая вся состояла из работы, была не жизнь, нельзя подобного требовать от других людей…
Как-то пришел к нему на прием инженер Пименов из промкомбината, просил комнату для дочери. Стал излагать, вдруг горло перехватило, чуть не разрыдался, выбежал, так и не договорив. Вечером Лосев зашел к нему домой, все-таки человек заслуженный, активист. Посидели, чай попили, вышли во двор, и Пименов рассказал. С дочерью у него отношения разладились. И раньше она росла диковатая, с людьми сходиться не умела, страдала от этого. С возрастом совсем замкнулась. На работе ее не выносят, но он-то чувствует, что внутри у нее душа живая, томится и чахнет, и гибнет, а высвободить ее нет возможности. Когда, из-за чего это получилось — он один знает. Его отцовская вина. Мать болела, все по больницам, а он дочкой не занимался, не до семьи было, каждую минуту общественной работе отдавал, семьей жертвовал. А зачем? Жена так и умерла в больнице, на чужих руках, навещал ее наспех, то актив, то комиссия… Зачем это все было? — допытывался у Лосева этот седеющий, с хорошо поставленным голосом, безотказный, аккуратно записывающий выступления на семинарах, на заседаниях… Лосев как мог утешил его, и с комнатой дочери помог, но после этого, слушая на каком-нибудь активе его горячее выступление, всегда испытывал неловкость.
— Какая ж у тебя личная жизнь?
— Бурная. Ребята. Я люблю возиться с ними. Потом родные. У нас семья большая. Потом сватаются ко мне… И вообще.
— Кто сватается?
— Да хоть бы Рогинский.
— Рогинский?.. И что ж ты?
— Он хороший, честный, но ему жена нужна для порядка, а не для любви… Мне любовь хочется испытать. Настоящую. Великую и вечную. Как по-вашему, была у Астахова такая любовь? Я кругом себя не могу обнаружить. У всех какая-то синтетика. Неужели я не в состоянии внушить такую любовь? Как по-вашему?
— Можешь, конечно, но лучше самой полюбить.
— Наконец-то получила указание… Еще бы сообщили, кого и как… А если я не умею? Эх, знали бы вы, какая гадость у меня на душе от замужества осталась. Нет уж.
— И что же?
— Погуляю еще годик и рожу сына. Или замуж выйду.
— За кого же?
— Может, за Рогинского. Может, еще за кого-нибудь… А может, за вас!
Лосев рассмеялся, но ничего не успел сказать.
— …Нет, пожалуй, лучше за Рогинского. Вам я не нужна. Вам никто не нужен, вы все сами можете. А мне куда-то силы надо приложить, я бы столько могла… Рогинский меня к дому приключит, я ему сделаю, как он мечтает — первый дом в городе, в славянско-техасском стиле. Приемы с пирожками, виски. Смотрим телевизор, все по очереди говорят тосты… Или как теперь принято — поднимают тосты. Приезжие артисты и поэты расписываются в альбоме, а не то еще на скатерти, а назавтра я вышиваю их высказывания.