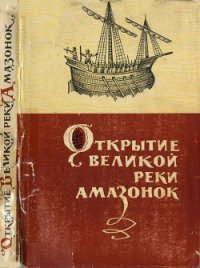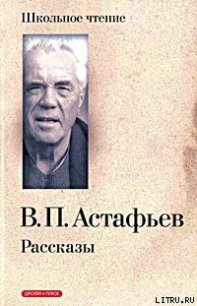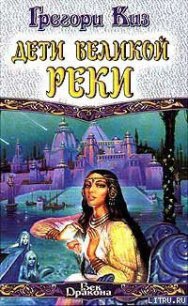Плацдарм - Астафьев Виктор Петрович (книга жизни txt) 📗
«Завопил, небось, — порешил Финифатьев, — шибко любит повопить подбитый фриц. А все оттого, что фюрер внушил ему, будто он и неустрашимый, и непобедимый. Впрочем, и Ивану тоже, да и Тойво, и Жану, и Трестини, и Донеску вдарит когда смертной пулей, поорать очень хочется».
— Вот так-то оно и добро, ладно! — подвел итог всему происшествию сержант Финифатьев.
Булдаков молча выбросил из патронника гильзу, загнал туда новый маслянисто поблескивающий патрон, поставил затвор на предохранитель, высморкался и потребовал у Финифатьева:
— Давай закурить!
— Да где ж я возьму, Олеха? Нету табаку-те. Нету. Весь ты его вызобал, когда воевал у пулемета.
— Ничего не знаю. Ты — командир. Обеспечь победителя!
— Ох, Олеха, Олеха! Все-то тебе смехуечки! Уж такой вы сибирский народ! Пазганете человека, высморкаетесь — и вся тут обедня!
— Нет, не вся. Закурить чалдону завсегда после удачи полагается и выпить. Действуй давай!
В полдень же, сразу после бомбежки, еще до того, как Шестаков отправился на поиски товарищей, позвонил полковник Сыроватко и сказал, что сейчас на правый фланг, к артиллеристам, придет представитель большого хозяйства кое-что обговорить. Совещание же командного состава, имеющегося на плацдарме, нужно собирать тоже сегодня, после захода солнца, когда сделается потише. Нужно что-то придумывать самим, самостоятельно принимать решение насчет дальнейших действий. За рекой ни мычат, ни телятся, силы людей на пределе.
Майор Зарубин попросил солдат пристально следить за поймой Черевинки, не давать немецким пулеметчикам особо резвиться.
— Какая-то очень уж важная птица к нам следует, — заключил он.
— Подполковник Славутич, — махнув рукой возле крупной головы, на которую была насунута солдатская пропрелая пилотка, доложился гость. — Заместитель начальника штаба корпуса, — и придержал рукой Зарубина, встречно шевельнувшегося. — Лежите, лежите.
Кирзовые сапоги, замытые водой до белизны, были тоже не с ноги довольно складного, но усталого пожилого подполковника. «Значит, переправлялся вместе со всеми, и тонул, и утопил свое обмундирование», — решил Зарубин, и ему не то чтобы легче сделалось от этого, а как-то свободней сделалось.
В это время и сунулся в пещерку к Зарубину сержант Финифатьев, но, увидев незнакомого командира, подался на попятную.
— Чего вам, товарищ сержант? — спросил Зарубин, зная, что попусту бойцы из верхних окопов под берег не полезут, беспокоить его не станут.
— Тут такое дело… — начал Финифатьев и смешался. — Немца-наблюдателя мы пазганули.
— Какого немца? Где?
— На лесине. В речке. А я все думал, думал, што-то немец глушит и глушит нас минами, да все гушше и плотнея, гушше и плотнея.
— Ну и что?
— Дак наблюдателя-то Булдаков сшиб, ну такой большой-большой матершинник он и трепло, а вот сшиб с лесины единым выстрелом.
— Ну и…
— Курить просит, ашшаульник этакой, за победу, говорит, завсегда, говорит, поощрение полагается.
Вспомнив про баночку-завертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту:
— Может быть, еще осталось?
— Нам на завертку токо, на завертку, — свинчивая крышку с кругленькой пластмассовой баночки, дрожал голосом Финифатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. — Вот Олехе радость-то! Ему пожрать, покурить да выпить… — перехватив взгляд подполковника, робкий, просительный, сержант протянул ему баночку. — Курите и вы, товарищ командир, не знаю, какой вы части-звания.
— Шестаков приплавил табачку, — пояснил майор, — тонул который. Кстати, сержант, как он вернется, сразу ко мне.
Славутич умело и быстро свернул цигарку, затянулся, замычал мучительно и сладостно. У него все плыло в голове, но в груди помягчело, словно бы прочистило, осадило дымом внутри слизистую горечь.
Дела на левом фланге, у Сыроватко, совсем плохи. Противник забрасывает гранатами, мелкими минами овраги, где окопалась пехота. Ответить нашим бойцам нечем — гранаты на исходе, патроны со счета, контратаки в лоб не дали результатов, просачиваться по оврагам вверх опасно — немцы лучше наших бойцов знают рельеф местности, отрезают слепо тычущиеся группы в разветвлениях оврагов и уничтожают. Начали действовать снайперы, наносят большой урон. С господствующей высоты Сто немцы просматривают почти всю полосу берега, и только за яром спасение, отчего все больше и больше народу скапливается здесь, на берегу реки.
— Это опасно: на кромке берега не удержаться — немцы на узком пространстве завалят нас бомбами и минами, под прикрытием огня вплотную сойдутся с нашими частями, невозможно сделается прикрываться огнем артиллерии. Тогда все. Почти безоружных, голодных, измотанных переправой и боями людей противник опрокинет коротким броском в реку.
Все это подполковник Славутич говорил майору Зарубину ровным, отработанным голосом человека, привыкшего к докладам, умеющего делать их предельно ясно, без лишних слов и чувств.
Помолчали. Майор предложил подполковнику еще закурить, и тот не отказался. Он даже обрадовался вслух:
— Кажется, век не курил!.. Есть соображения, — отвечая на ожидающий взгляд майора, подполковник Славутич излагал суть дела: — Высота Сотая — самая важная на плацдарме. Надо ее взять. В лоб это сделать невозможно — выкосят. Нужен обход. Разведчики Сыроватко обнаружили недалеко от вас наблюдательный пункт. Малочисленный. С него захода в тыл нет, но боковой скат высоты просматривается. Решено небольшой подвижной группой окружить и захватить этот пункт. Лучше всего налет сделать в обед, когда немцы сойдут с огневых точек. Времени в обрез. Прошу выделить мне людей.
— Вы что?! — вскинулся майор Зарубин. — У меня есть боевой офицер и сержант…
— Людей поведу я! — жестко отрубил Славутич. Он присел на ком глины, заросший ломкой травой, и снял пилотку. Волосы росли у подполковника с половины головы, пролегая дугой от уха до уха. Библейский лоб казался выпуклым, огромным. Под короткими, но широкими бровями основательно и строго сидели глаза. Губы четко очерчены, и небольшой, но властный подбородок придавал еще большую основательность и резкость этому напряженному лицу.
— Шел я сейчас по берегу, — как бы отвечая на недоуменный вопрос майора, вновь заговорил Славутич. — И ловил на себе взгляды, один раз даже и услышал: «Вот она, тыловая крыса! Ползет в безопасное место…» — Каково это слышать мне, офицеру, получившему орден еще на финской?! Хотел я, знаете, вытащить говоруна из норки, приструнить, да вспомнил, что очень много поводов стали подавать наши командиры для этаких разговоров. Скажите, отчего вы находитесь здесь, будучи раненым? Разве вас некем заменить? Где командир полка Вяткин?
— Не могу, товарищ подполковник, оставить людей. Я вместе с ними переплавлялся. Они хоть какие-то надежды связывают со мной, спокойней дело делают, когда я здесь… При первой же возможности я уплыву. Я так уже навоевался, что рисоваться и геройствовать не могу. Прошу верить мне.
— Верю, — кивнул головой Славутич, — верю и благодарю! Но при этом думаю о тех офицерах, которые вырядились, как лейб-гвардейцы, в парадные мундиры, позавели себе крытые персональные машины, понатащили в них женщин, холуев, и когда штаб движется по фронту, в том числе и вашего полка, — похоже на цыганский табор, который по Бессарабии кочует в шатрах своих. Как у Пушкина?
— В изодранных.
— Черт знает что! Попади на ваше место баринок военный, да получи царапину — он бы весь боезапас израсходовал, кучу людей положил, чтобы вызволить с плацдарма свою драгоценную персону.
— Вы преувеличиваете, товарищ подполковник. Дармоедов, баловства всякого и правда много, но все же… в крайнюю минуту…
— Скажите, окружение — дело крайнее?
— Да уж…
— Так во время летнего наступления штаб нашей армии был окружен и атакован немецким десантом. И что вы думаете? Почти половина штабников оказалась без личного оружия! У господ офицеров, что имели пистолеты, — по одной обойме в пистолете. Оружие не чищено со времен ликвидации Сталинградской группировки! Это ли не бедлам? Тут же открылось воровство патронов и оружия. Паникующие штабники вдруг вспомнили, что они все же на войне. Танкисты Лелюшенко вызволили нас… — Славутич смущенно потупился: — Я могу у вас еще попросить покурить?