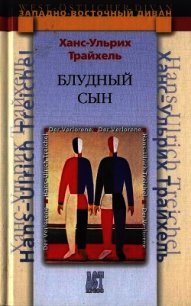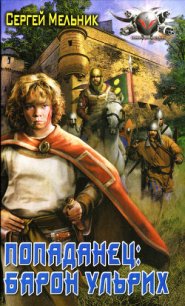Тристан-Аккорд - Трайхель Ханс-Ульрих (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Всю ночь Георга мучили кошмары, и выспаться ему так и не удалось. Позавтракав в ближайшем кафе недалеко от площади и вернувшись в номер, он благополучно задремал и проснулся как раз вовремя, чтобы дойти до «Плазы» не спеша. В гостиницу он вошел уверенным шагом давнего постояльца, и портье приветствовал его соответствующим образом. Сообщив о своем прибытии дежурному администратору, Георг поднялся на лифте. На сей раз дверь открыл сам Бергман. Он был облачен в какой-то японский халат и соломенные сандалии — наверное, недавно проснулся. Казалось, его ничуть не смутило, что Георг застал его в таком виде. Георг расценил это как знак доверия. Даже на Скарпе Бергман всегда появлялся в безупречном костюме, к ужину нередко выходил в галстуке. Только что с постели, объяснил Бергман, сейчас приведу себя в порядок, это быстро. Пока Георг ждал, в гостиную вошел Бруно, со стопкой свежих газет и охапкой букетов. В той же небрежной манере — так, словно они виделись сегодня уже раз десять, — Бруно поприветствовал Георга американским «Hi!» — «Hi!» — отозвался Георг и стал наблюдать, как Бруно расставляет букеты и разносит вазы по комнатам. Нужно позаботиться о лимузине, сказал Бруно и вышел из комнаты. Через некоторое время появился Бергман — в черном костюме и серебристом галстуке, он был готов к вечернему выходу. На работу оставалось около двух часов. Георг зачитывал неудачные, с его точки зрения, места, предлагал корректуру, а Бергман или соглашался, или диктовал Георгу новый вариант, который тот сразу же вносил в текст. Если работать в таком темпе, то двух встреч должно хватить. Георг чувствовал удовлетворение, Бергман, видимо, тоже. Правда, не прошло и часу, как композитор заерзал, принялся то и дело вскакивать со стула и прохаживаться по комнате. Руками он пока не размахивал, свиста и шипения не издавал, но Георг уже чувствовал, что все идет к тому. Они дошли было до места, где мемуарист ошибочно назвал мирт — миррой, когда Бергман, в очередной раз вскочив со стула, вдруг сообщил, что Стивен, его новый секретарь, изучал в Лондоне музыковедение и сейчас пишет диссертацию — о нем. Дабы облегчить молодому человеку эту непростую задачу, он предложил Стивену поработать его секретарем. А Георг на кого учится? — осведомился Бергман. Обомлевший от удивления Георг промямлил, что университет у него позади, он пишет диссертацию. «Интересно!» — бросил Бергман и замолчал. Если минуту назад Георг был растроган тем, как доверительно они сидят за одним рабочим столом, то сейчас его сильно задело то обстоятельство, что композитор, очевидно, напрочь забыл все то, о чем ему рассказывалось на Скарпе. Все забыл: Мнемозину, Лету, диссертацию о забвении. Забывчивость Бергмана расстроила Георга, хотя всех ненаписанных диссертаций, естественно, не упомнишь: у бетховенов и брамсов есть дела и поважнее. Кроме того, Бергман, кажется, ценит его и так, без диссертации. Это стало понятно, когда Бергман, в который уже раз вскочив со стула, задумчиво прошелся по комнате и неожиданно сообщил: «Мне нужен гимн!» — «Для мемуаров?» — переспросил Георг. «Нет, — ответил Бергман. — Для „Елисейских полей“. Четвертая часть будет хоровой, это решение он принял только что. Он сделает финал апофеозом. Во славу мира, счастья и вечного спасения. Апофеоз в эпоху раздробленности и разобщенности. Гимн смутных времен. Но гимн! „Чрезвычайно несвоевременно, — сказал Бергман, — анахронизм, да и только“. Шеер с Витте перевернулись бы в гробах, не будь они до сих пор живы. Но вот беда, нет подходящего гимна. „Вы ведь пишете стихи, — сказал Бергман. — Значит, и гимн сумеете“. Само собой разумеется, гимн должен быть мощен и великолепен; вспоминается, главным образом, Гёльдерлин — даже не Шиллер, а именно Гёльдерлин; Гёльдерлин наших дней. „Гёльдерлин, — сказал Бергман, — который странствует по Швабии, но при этом имеет пентхаус в Нью-Йорке… Ну хорошо, пусть не пентхаус. Небольшую квартирку в Гринвич-виллидж или в ДАМБО“. Опять ДАМБО! Бергман, значит, тоже в курсе — не подвело чутье рыжеволосую сокурсницу. „Нью-Йорк и Нюртинген[8], — сказал Бергман, — чтобы вам было понятнее, что я имею в виду“. Понятнее не стало, но признаться в этом Георг не отважился. „Но Штутгарт тут ни при чем!“ — прибавил Бергман и замолчал. Георг почувствовал, как кровь ударила в голову и сердце бешено заколотилось. Во рту пересохло, хотелось глотнуть воды или свежего воздуха. „Гимн, но не штутгартский!“ — выпалил он вдруг. „С чего вы взяли?“ — серьезным голосом спросил Бергман и изумленно взглянул на Георга. Впрочем, детали можно обговорить после. Лучше всего — на Сицилии. „С удовольствием“, — с усилием выдавил Георг, судорожно глотая воздух: кровь стучала в висках, в голове закручивались спиралеобразные вихри. Только он попытался отдышаться, чтобы прийти в себя, как появился Бруно: лимузин готов, можно ехать. Стивен уже проводит осмотр на месте — шоу состоится в театре „Одеон“. Бергман немедленно откликнулся на призыв Бруно, Георг последовал за ним. Бруно на секунду задержался, чтобы взять кое-какие вещи, и поспешил следом. Внизу, в вестибюле, их поджидал человек в лыжном костюме. Он назвался Фредериком и сообщил, что отвечает за сопровождение гостей Дика Раймонда и что ему поручено доставить господина Бергмана. „Фредерик увлекается зимними видами спорта?“ — не удержался Бергман. „Только не летом“, — прозвучало в ответ. Лето было в самом разгаре, но ответ Фредерика удовлетворил Бергмана. Всем своим видом композитор давал понять, что он всемирная знаменитость, которую волнует только Искусство. Посмотрел на облака, сосредоточенно вгляделся вдаль Пятой авеню и только потом равнодушно уставился на автомобиль, стоявший у него перед носом. Это был удлиненный лимузин кремового цвета — как минимум в два раза длиннее „бентли“, — за рулем которого сидел водитель в униформе. Сегодня Бруно не нужно было вести машину, он распахнул перед Бергманом дверцу. „А это еще что такое?“ — спросил Бергман, указывая взглядом на лимузин и не двигаясь с места. „Машина“, — ответил Бруно. В такую машину, заявил Бергман, он не сядет ни за что на свете. „Слишком вульгарно. Лучше уж на метро или пешком“. Расправив плечи и закинув голову, Бергман решительно двинулся по Пятой авеню — в северном и, видимо, неверном направлении. Бруно побежал вдогонку. После долгих уговоров ему наконец-то удалось убедить Бергмана отправиться к машине. Георг порадовался сговорчивости Бергмана. За два дня он уже успел обратить внимание на длиннющие нью-йоркские лимузины, полагая, что на таких автомобилях должны разъезжать лихие разудалые личности, которым все трын-трава. Заглянуть внутрь было невозможно: окна этих машин всегда затемнены или занавешены, но Георг без труда представлял себе роскошный салон, пушистые ковры и кресла с мягкими подлокотниками. Но кремовый лимузин не оправдал ожиданий: меблировка оказалась скудной, ковров не было и в помине. Вместо мягких кожаных сидений — две клеенчатые скамьи вдоль стен. Пассажирам приходилось сидеть друг напротив друга, как в метро. Полное сходство с метро придавали этому салону свисающие петли, за которые можно держаться. „Кошмар!“ — кратко сказал Бергман, уселся на скамью и замолчал со значением. Георгу хотелось расспросить Фредерика о том, чем он занимается и что такое шоу Дика Раймонда, но из боязни потревожить Бергмана он не проронил ни слова. Ехали они недолго, и вскоре взорам открылось здание театра с длинной очередью перед входом. Обогнув его, Фредерик остановился у служебного подъезда со стороны улицы. Бруно и Стивену было позволено сопровождать Бергмана, к Георгу же подошла молоденькая билетерша, которая подвела его к главному входу и протащила внутрь. Продираясь сквозь толпу, Георг видел, как многочисленные коллеги его провожатой небольшими порциями пропускают публику внутрь. Оказавшись за заветной дверью, публика издавала дружный радостный вопль и со всех ног неслась вперед — занимать места поближе к сцене. Георгу тоже досталось место впереди, рядом с ансамблем. Музыканты еще не вышли, но перед сценой и в боковых проходах стояло множество людей, судя по всему — стражей порядка; все они, подобно Фредерику, были одеты в лыжные костюмы и утепленные куртки. По мере того как заполнялся зал, Георг все отчетливее понимал, почему они все так тепло одеты. Температура воздуха в „Одеоне“ была ощутимо ниже нормы. В зале стоял такой холод, что Георг начинал побаиваться за свое здоровье. Персонал, по всей видимости, тоже побаивался. Публика же проявляла легкомысленность: большинство зрителей явилось в легкой летней одежде, многие в шортах. Вскоре вспыхнули софиты, ансамбль сыграл вступление, специальный „разогревающий“ конферансье поприветствовал зал и огласил программу — оказалось, что речь идет о телешоу, — но в зале от этого не потеплело. Встреченный неистовыми овациями Дик Раймонд — сухопарый, энергичного вида человек в темном костюме и ослепительно белой рубашке (Георг вспомнил белые крахмальные рубашки отца) — холода не страшился. Свое шоу он начал с юмористического монолога, от которого публика пришла в бурный восторг. Георг ничего не понимал. Ни любимых американцами и недоступных иностранцам спортивных (футбольно-бейсбольных) анекдотов, ни политических острот, понятных лишь узкому кругу посвященных. Одна из шуточек касалась прически нью-йоркского мэра. Но тот, кто ни разу не видел нью-йоркского мэра, вряд ли найдет эту шутку смешной. Однако зал ликовал: монолог еще не закончился, а всюду, куда ни глянь, расцветали счастливые улыбки. Георгу было по-прежнему холодно, но ведущий, кажется, согрелся. Когда объявили первую рекламную паузу и на нескольких экранах начался показ рекламных роликов, Дик Раймонд, совещаясь о чем-то с помощником, снял пиджак и бросил его на спинку стула. Он хоть и согрелся, но ни испарины на лбу, ни темных пятен под мышками у него не появилось, Георг обратил на это внимание. И еще он обратил внимание на резкую перемену в выражении лица и во всем облике ведущего, едва тот снял пиджак. Сейчас Дик Раймонд уже не казался ни приветливым, ни тем более комичным — он стал похож на менеджера, которому срочно нужно решить важный кадровый вопрос. Своеобразные флюиды, исходившие от его фигуры и словно передававшиеся непосредственно в камеру, вмиг исчезли. Вылитый председатель правления крупного промышленного концерна во время краткого перерыва между заседаниями. Между тем последний ролик подходил к концу, на экранах показалась заставка с анонсом телешоу. Как только это произошло, Дик Раймонд — секунда в секунду — надел пиджак, сделал веселое лицо и объявил первого гостя. Всего их ожидалось трое: телезвезда из сериала, фотомодель и Бергман. Какое разочарование! Он-то ждал встречи со знаменитостями вроде Вуди Аллена, Мадонны, Арнольда Шварценеггера или, скажем, Пола Маккартни. И вот на тебе! При появлении телезвезды — актер снимался в новом фильме про Лесси — зал разразился столь же бурными аплодисментами, что и при появлении самого Дика Раймонда. О самом фильме, который так и назывался — „The New Lassie“, актер смог сообщить только то, что Лесси играет не один пес, а целая свора. Для Георга это известие не было неожиданностью: с предыдущим сериалом дело обстояло точно так же. Кроме того, он был к нему равнодушен. Его любимым сериалом был „Мистер Эд“. Вот если бы вдруг выяснилось, что в роли мистера Эда снимался табун, тогда он, может, и удивился бы. Но этого никогда бы не случилось. На роль Лесси понадобилось много собак, поскольку главная героиня, умнейшая псина, знала такое количество трюков, на которое ни одна нормальная собака не способна. Не слишком ли много для одной колли? Да и характер у Лесси непростой: то ласковая тихоня, то энергичная задира, то дурачится, то грустит — это тоже чересчур. Персонаж фильма был самкой, но в некоторых сценах, чтобы подчеркнуть определенные грани ее характера, задействовали кобелей. При этом, естественно, нужно скрыть от зрителя гениталии. Впрочем, скрыть гениталии колли — дело нехитрое. Что же до мистера Эда, он не умел выполнять трюки. Он вообще ничего не умел. Только говорить. Но это был даже не трюк, а сверхъестественная способность. Георг с раннего детства знал, что говорить человеческим голосом лошади не умеют. Но это знание нисколько не умаляло его восхищения мистером Эдом, который хоть и понарошку, но все же говорил: скалил зубы и безостановочно шевелил губами. Следя за движениями его губ, специалист по озвучанию изъяснялся за мистера Эда. Сейчас, по прошествии многих лет, Георгу приходило в голову, что за непрерывным подергиванием губ крылась психическая аномалия. Вдруг это было проявление невроза? Или навязчивых состояний? А может, мистеру Эду мешал какой-нибудь нарост во рту, который специально не удаляли, чтобы он не перестал перебирать губами? После второй рекламной паузы на сцене появилась фотомодель. Девица незаурядных способностей — фотомодель, манекенщица и рекордсменка по погружениям. Она могла по несколько минут просиживать под водой без воздуха и уже не раз становилась лауреатом соответствующих конкурсов. Сегодня ныряльщица собиралась поставить очередной рекорд, для чего в студию вкатили стеклянную емкость, наполненную водой. Видимо, процедура проходила не вполне гладко — Дик Раймонд занервничал и позвал на подмогу еще рабочих. Некоторое время они копошились вокруг стеклянного, похожего на огромную пробирку, бассейна, устанавливая его на сцене. Наконец фотомодель сбросила халатик, под которым обнаружился красный купальный костюм со свинцовым ремешком, и погрузилась. Сопровождал ее некий длинноволосый юнец в специальном снаряжении, с маской и кислородным баллоном. О нем было известно, что это тренер, который, в случае чего, окажет помощь своей подопечной. Не успела парочка погрузиться, как Дик Раймонд объявил третьего гостя. Похоже, он экономил время и не хотел терять те несколько минут, что девица просидит под водой. Когда на сцену вышел Бергман, зал встретил его аплодисментами — не столь бурными, как при появлении актера, но все же доброжелательными. Однако Бергман был хмур. Двигался крайне медленно и еще более, чем обычно, походил на изваяние. Серебрящаяся в лучах прожекторов седина, внушительный строгий профиль, оливковая кожа; элегантный вечерний костюм дополнял эффектную картину. Выйдя на сцену — чуть помедлив, а затем державной поступью направившись к Раймонду, который тут же вскочил и протянул гостю руку, — Бергман напоминал статью из музыкальной энциклопедии. Солидную статью, сошедшую со страниц „Гроува“ или „МПН“. Аура Бергмана отчетливо ощущалась в зале: Георг ощущал ее, может быть, даже чересчур отчетливо, однако Дик Раймонд, казалось, не ощущал ее вовсе. Поприветствовав гостя рукопожатием и предложив ему сесть, ведущий атаковал его вопросом. Каково мнение мистера Бергмана, удастся ли фотомодели побить прежний рекорд? Вместо ответа Бергман с таким недоумением повернулся к бассейну, словно он не понимает, что здесь такое происходит. Дело в том, промолвил он наконец, что он композитор, все остальное — не по его части. После этих слов Дик Раймонд повернулся к публике и объявил, что завтра в Линкольн-центре состоится мировая премьера нового сочинения маэстро, которую всем рекомендуется посетить. „Все билеты проданы“, — отрезал маэстро. „Проданы! — истерично, на манер балаганного зазывалы, завопил Дик Раймонд. — Неужто ни одного ни осталось?!“ На десятую долю секунды он замолчал и впервые за вечер как будто даже растерялся. Но десятая доля секунды быстро миновала, Дик Раймонд взял себя в руки. „Напомните, маэстро, как называется ваше сочинение?“ — спросил он. „Пирифлегетон для большого симфонического оркестра“, — нехотя ответил Бергман. Тут раздался громкий удар гонга, возвестивший о том, что предыдущий рекорд побит. Теперь каждая секунда была на счету, Дик Раймонд отошел от стола и придвинулся к бассейну, чтобы лучше видеть все, что происходит за стеклом. Драматизм достиг кульминации, когда девица вдруг ухватилась за своего длинноволосого тренера, и теперь они стояли на дне бассейна рядом, держась за руки. Публика, естественно, растрогалась: бывают же такие прелестные пары. Не отрывая глаз от циферблата, Раймонд громким голосом отсчитывал секунды; все шло к тому, что фотомодель превзойдет самое себя на полминуты. Публика, из солидарности с фотомоделью, дрожала мелкой дрожью, желая победы спортсменке. Один только Бергман даже головы не повернул. Остановившимся взглядом смотрел он прямо перед собой, на его лице читалось страдание. Но никто, кроме Георга, этого не видел. Сперва лимузин, теперь это шоу… К счастью, Бергману не пришлось мучиться слишком долго. Раздался новый сигнал: прежний рекорд был превзойден на тридцать четыре секунды, фотомодель отстегнула ремешок и вынырнула. Овации, счастливый Раймонд, чемпионка хватает ртом воздух, ассистент подает халатик, поклоны, поздравления ведущего, уход со сцены. Юный тренер не торопился. Подхватил свинцовый ремешок и только потом вынырнул на поверхность. Ансамбль заиграл финальную мелодию, Дик Раймонд сказал: „Good night, folks!“, на экране поплыли титры, двери распахнулись, на сцену вышли рабочие и технический персонал. Кто-то подошел к Бергману, чтобы отцепить от лацкана микрофон. Бергман не сопротивлялся. Когда музыка смолкла и занавес закрылся, Георг покинул зал. Опасаясь дурного настроения Бергмана, он предпочел не дожидаться у служебного входа. Сел в метро, доехал до гостиницы и с мыслью о завтрашней премьере провалился в сон. Наутро он отправился на южную оконечность Манхэттена, в Батери-парк, где толпились туристы, желающие съездить на Эллис-айленд или же полюбоваться статуей Свободы. Георг был и сам не прочь побывать на Эллис-айленде и полюбоваться статуей Свободы, но, увидев длинную очередь за билетами, предпочел отправиться на Стейтен-айленд. Здесь очереди не было, к тому же переправа не стоила ни цента. На пароме оказалось мало туристов и много бездомных. Туристы сгрудились у поручней, любуясь видами Манхэттена, бездомные немедленно отправились в салон — посидеть просто так или почитать газетку. Едва паром причалил к берегу и Георг, неуверенно озираясь по сторонам, ступил на землю Стейтен-айленда, как механический голос внутри сказал: „Я был на Стейтен-айленде“. Механический голос раздражал Георга. Голос принадлежал будущему. Он лишал его настоящего. А хотелось ощущать настоящее, пусть безрадостное и тоскливое, но — настоящее. Сейчас оно явилось Георгу в образе полуразрушенного склада, свалки рядом с причалом и груды старых грузовиков, годных разве что в металлолом. Завидев наверху деревянные коттеджи, Георг вскарабкался по склону холма. Большинство домов пустовало. Деревянные американские коттеджи он знал по фильмам и очень любил. В этих домах пахнет свежемолотым кофе, в них живут молодые веселые матери и деловитые добродушные отцы. Здесь обитает Лесси, здесь тянется к кухонному окошку и получает свою морковку мистер Эд. Деревянные дома напоминали телевизионный рай. Но Стейтен-айленд не походил на райское местечко. Георгу бросились в глаза разбитые оконные стекла, поломанный стул посреди палисадника, развевающийся на ветру край ветхой занавески, застрявший между створками окна. Чуть повыше коттеджи кончались, сменяясь унылыми многоэтажками. Вот уж где точно не встретишь молодых веселых матерей и деловитых добродушных отцов. Вокруг не было ни единой живой души, лишь вдалеке виднелась стайка темнокожих подростков, возившихся с припаркованным на улице автомобилем. Каковы цели этой возни: ремонт, снятие деталей на запчасти, кража со взломом или угон — Георгу было не видно. Он шел вперед, навстречу подросткам, на ватных ногах, внушая себе, что бояться нечего. Только туристам в каждом чернокожем мальчишке мерещится опасный преступник. Но он-то не турист, в Америку приехал по делам — по делам искусства, — и нужно дать им понять, что ему не впервой гулять по таким улицам. Вчера он отдавил ногу черному громиле, и все обошлось. И сегодня обойдется, успокаивал себя Георг, как вдруг увидел, что один из мальчишек поднял голову и следит за его приближением. Георг продолжал свой путь, тем временем остальные тоже подняли головы: что ни шаг, то новый взгляд, — вскоре взоры всей группы были устремлены на чужака. Утратив всякий интерес к своему автомобилю, они сосредоточились на Георге. Более того. Они заняли позиции. Выстроились в тесную шеренгу и ждали его приближения. На лбу выступили капли пота, в растерянности Георг замедлил шаг. Честь его задета. Неужели он даст деру, неужели он капитулирует — только из-за того, что пара-тройка малолеток стоит посреди дороги и пялится на него во все глаза? Хотелось проявить мужество, не сдаваться, иначе потом будет стыдно — и едва это решение вызрело, как он развернулся и со всех ног припустил обратно к пристани. Оказавшись на безопасной территории, он отважился оглянуться. Никто его не преследовал. Видно, дал маху — малолетки оказались безобидные. А он капитулировал, как последний трус. Георгу было стыдно, он ругал себя последними словами. Хорошо хоть, что никто не видел. „Прощай навеки, Стейтен-айленд!“ — мысленно произнес он, стоя на палубе и окидывая гавань прощальным взглядом. Никакого желания любоваться видами Манхэттена он не испытывал. Подобрав экземпляр „Нью-Йорк Таймс“, оставленный кем-то из пассажиров, Георг мрачно листал газету. Со страниц, посвященных новостям культурной жизни, на него глянул портрет Бергмана, рядом с которым был помещен анонс премьеры „Пирифлегетона“. Добравшись до гостиницы, Георг прилег отдохнуть, а вечером отправился в „Плазу“, откуда они договорились все вместе ехать в Линкольн-центр. По дороге он продолжал ругать себя за трусость. Интересно, Бергман когда-нибудь трусил? Бежал от опасности? Конечно, нет. Бергман из породы тех, кто цепенеет, почуяв опасность. Или впадает в ярость и берет врага на испуг. Есть ли у Бергмана недруги? Один, похоже, есть: поднявшись в апартаменты, Георг застал Бергмана в состоянии сильного возбуждения. Поводом послужило опубликованное в „Ле Монд“ интервью с Нерлингером, который на вопрос о том, что он думает о присуждении Бергману звания Chevalier des Arts et des Lettres, воскликнул, недолго думая: „Бергман — гений!“. Статья в „Шетланд Пост“, видимо, все же попалась ему на глаза, и он решил поквитаться. Бергман от бешенства места себе не находил. На нем был парадный черный костюм и лакированные ботинки, и Бруно пришлось ослабить ему бабочку и расстегнуть верхнюю пуговицу, в такое он пришел волнение. Сейчас Бергман со всей серьезностью обдумывал, не направить ли письмо в редакцию „Шетланд Пост“. Или в дирекцию Эдинбургского фестиваля. Или шотландскому министру культуры. Но имеется ли у шотландцев министр культуры? Бруно не знал, Стивен тоже. В ответ на замечание Бергмана, что шотландцы, наверное, вместо одного министра культуры держат двух министров сельского хозяйства, Бруно посоветовал не принимать эту историю так близко к сердцу и осведомился, не пора ли застегнуть верхнюю пуговицу и повязать бабочку. Предоставив Бруно заниматься его туалетом, Бергман потребовал виски и напоследок сказал, что хорошо бы все же подать на Нерлингера в суд. „За злостный плагиат!“ — пояснил он. Стивен, не откликаясь на замечание Бергмана, молча налил композитору виски. После виски к Бергману вновь вернулось чувство юмора, благодаря чему дорога в Линкольн-центр оказалась довольно сносной; на сей раз их вез не длинный лимузин, а черный „линкольн“. Словно впав в эйфорию в предвкушении премьеры, композитор охотно отвечал на вопросы Стивена, который проявил неожиданную говорливость, затеяв разговор об использовании „плагального каданса“ в одной из ранних композиций Бергмана. Впервые слыша термин „плагальный каданс“, Георг преисполнился уважением к Стивену, который непринужденно оперирует такими сложными словами — до сих пор Стивен напоминал ему скорее запуганного камердинера, нежели грамотного музыковеда. Но сейчас он будто преобразился. Казалось, впервые за все время он наконец-то может побеседовать с Бергманом о его творчестве и, соответственно, о собственной диссертации. Но счастье недолго улыбалось Стивену. Лимузин свернул на площадь перед Линкольн-центром, и Бергман завершил беседу подчеркнутым: „Аминь“, в ответ на что Стивен понимающе хихикнул. Наверное, „Аминь“ как-то связан с „кадансом“, и специалисту эта шутка понятна. У артистического подъезда лимузин затормозил, и все повторилось по вчерашней схеме: Бергман вместе с Бруно и Стивеном вошли по служебному, а Георг, взяв у Бруно билет, направился к общему входу. В фойе было полным-полно народу, кто-то держал над головой записки: „Куплю билет!“, кто-то стоял у кассы, дожидаясь брони или возврата. Бергман не ошибся, когда говорил, что концерт пройдет при полном аншлаге и, войдя в зал, Георг окончательно в этом убедился. У него было место в партере, с левой стороны, не очень близко от сцены. Бруно и Стивен уже разместились неподалеку. Видимо, этот уголок зала был предназначен сегодня для друзей и соратников. Ни одного знакомого лица Георг, естественно, не видел, смутные ассоциации вызывала в нем лишь одна пожилая супружеская чета, но откуда он знает этих двоих, Георг не помнил. Мэри в зале не было, это Георга расстроило — он так надеялся на встречу. Предвкушая этот вечер, он радовался, откровенно говоря, не столько тому, что наконец услышит музыку Бергмана, сколько тому, что снова увидит зеленые глаза Мэри. Тем временем оркестранты расселись по своим местам, свет убавили, гул голосов затих. Самое время появиться дирижеру, но он почему-то не появлялся. Повисла мучительно долгая пауза. Внезапно дверь внизу отворилась, и в зал вошли Бергман и Мэри. Болтая о чем-то, они медленно направились к своим местам. Зал зааплодировал, и Бергману, который уже успел сесть, пришлось привстать и поклониться. Когда Бергман окончательно уселся, появился наконец дирижер, сэр Джон Филдс, американец с титулом английского аристократа, что большая редкость: должно быть, у него английский паспорт. Нью-йоркская публика приветствовала сэра Джона с большим энтузиазмом. Георг, конечно, тоже аплодировал. Но он рукоплескал не дирижеру и не композитору, а Мэри, — Мэри, которая походила сегодня не на „колледж-герл“, в джинсах и блузке, а на элегантную юную леди из лучших кругов Манхэттена. На ней было черное облегающее платье с узкими бретельками; волосы убраны наверх. Уже дирижер взмахнул палочкой, оркестр заиграл, а Георг все не сводил глаз с Мэри, любуясь прекрасной анатомией ее плеч, затылка и шеи. „Пирифлегетон“ оказался совсем не похож на то, что он ожидал услышать. Особенно — начало. Вступив еле слышно, струнные вдруг заскрипели и заскрежетали, за ними сухо отбарабанили ударные, затем снова раздался скрип и скрежет струнных — все громче и громче, он постепенно превращался в нечто более или менее знакомое. Но едва Георг услышал это привычное уху звучание, как оно тут же исчезло, выродившись в болезненный, дергающий металлический лязг, который тоже вскоре оборвался, сменившись звуками, похожими не то на выстрелы, не то на щелчки бича. Когда бич отщелкал, отрывисто и кратко, снова заныли и заскрежетали струнные. Теперь они тянули за собой измученную флейту: устало похныкав, она стушевалась, и тут же вслед за ней — даже не протрубили, а, скорее, выдохнули, одна за другой, трубы. Вот они, дальние пределы преисподней. Долины огненной реки, пойменные луга. Георга одолевали сомнения. Нет, это не то. Это что-то другое. Привычка фантазировать под музыку была его всегдашней ошибкой. Но без этого он не мог ее слушать — ни классическую, ни современную — и раньше, в школьные годы, под музыку перед его мысленным взором всегда что-нибудь возникало. Бах, к примеру, всегда ассоциировался у него с жесткими скамьями эмсфельдской церкви и пасмурным небом, которым Бог покарал Эмсский край за его грехи. (Грехи были такие, какие Эмсскому краю никогда и не снились). Он вспоминал, как однажды вытащил деньги из маминого кошелька и мучился потом бесконечными угрызениями совести. Матушка, надо сказать, так ничего и не заметила. Но Георг терзался, и стоило ему услышать Баха, он тут же вспоминал свои детские мучения. Под Бетховена ему казалось, будто он скачет на коне по полям и проселочным дорогам. Ни лошадьми, ни, собственно говоря, Бетховеном он никогда не увлекался. Предпочитал Шопена, последние два года перед выпускными экзаменами слушал его постоянно. Слушая Шопена, Георг понимал, что провалит экзамен на аттестат зрелости. Но это его не угнетало, а странным образом успокаивало. Без Шопена плохие оценки вгоняли его в тоску. С Шопеном он утешался и забывал свою тоску. Но чем старше становился Георг, тем хуже работало его музыкальное воображение. Дело, должно быть, в образовании. Зачем образованному человеку воображение? Образованный человек самозабвенно слушает музыку ради самой музыки, ибо она, как объясняли Георгу еще на первом курсе университета, есть искусство sui generis. После десяти семестров образы уже не являлись, но слушать музыку ради музыки Георг так и не научился. Сидя в зале (он исправно ходил на концерты, поскольку так делали все знакомые), Георг нередко задумывался над тем, что же он, собственно говоря, слышит, когда слушает музыку. Понятно, что это музыкальные звуки, извлекаемые разными инструментами. Но о чем они, эти звуки, ему говорят? О чем говорят симфонии Моцарта или струнные квартеты Бетховена? А Малер, Барток, Бергман? Вот в чем вопрос. Сидя в концертном зале, он спрашивал себя, как же все остальные, что слышат они. Неужели все те, кто сидит сейчас рядом с ним, улавливают в музыке исключительно этот самый sui generis? У большинства это крупными буквами написано на лбу. Сразу видно: культурные люди, умеют слушать. Георгу очень хотелось ощущать свою принадлежность к этому сообществу. Но приходилось сознаться, что культурного человека он всего лишь разыгрывает. Особенно в концертном зале. Как только поднималась дирижерская палочка и раздавались первые такты, Георг делал сосредоточенное лицо, будто от всего отключился и ничего, кроме музыки, не слышит. Это было непросто, ибо он знал, что, как только со сцены или из оркестровой ямы польются звуки, на него навалится смертельная усталость. Эта усталость была так сильна, что сильнее не бывает, и лишь тяжкое бремя культурной ответственности, знакомое любителям опер и концертов, мешало ему заснуть. Тогда его начинала одолевать зевота, и он сидел, испепеляемый неприязненными, а порой и презрительными взглядами соседей. Гораздо легче высидеть концерт, если в зале светло и можно полистать программку или почитать книжку. Стоит сосредоточиться на чтении, усталость как рукой снимает. Мало того: если рядом играет симфонический оркестр, то читаешь гораздо вдумчивее. Пытаясь сосредоточиться на музыке, Георг мгновенно уставал. Чтение помогало ему взбодриться. С книгой в руках он лучше воспринимал музыку, изредка даже получал удовольствие. Георг вспоминал, как однажды он отправился в Берлинскую филармонию слушать Девятую симфонию Малера и, зная, что света в этом зале достаточно, прихватил с собой книгу. И вот он сидел, углубившись в чтение и наслаждаясь музыкой — вечер удался бы на славу, если бы сосед слева вдруг не потребовал, чтобы Георг прекратил. „Мешает“, — прошипел он, указывая взглядом на книгу. „В каком смысле?!“ — удивился Георг, но в ответ раздалось лишь грозное шиканье соседа справа. Оба соседа — не знакомые Георгу мужчины средних лет — принадлежали, видимо, к числу филармонических завсегдатаев, которые умеют отключаться и знают, как надо слушать. В филармонии таких полным-полно, и спорить Георг не осмелился. Захлопнув книгу, он стал поджидать приступа усталости. Но в этот раз случилось иначе: сперва у него защекотало под нёбом, потом запершило в горле, а потом так сильно сдавило в груди, что он стал кашлять и разразился страшным приступом, от которого сотрясалось его кресло и кресла обоих соседей. И тогда он снова ощутил на себе их взгляды. Неприязнь сменилась в них ненавистью, готовностью к насилию. Он испортил им Девятую симфонию Малера, и они бы его убили, будь это в их власти. Георг уцелел, но с тех пор всегда, приходя на концерты, боялся повторения приступа. Вот и сейчас он вдруг почувствовал то самое легкое щекотание в горле, с которого тогда все начиналось. Вскоре щекотание переросло в першение, сопровождаемое довольно ощутимым спазмом в бронхах. Но кашлять Георг не собирался. Сегодня у него не было причин кашлять. Во-первых, он сидел на этом концерте не просто так, он пришел в Линкольн-центр не из любви к искусству, а по работе. Во-вторых, можно было переключиться на созерцание плеч, затылка и шеи Мэри, что позволяло забыть о желании кашлять. Уставившись на оголенные участки ее тела, Георг краем уха слушал, как звучит крещендо: видимо, приближалось то самое место, которое он запомнил тогда на Скарпе, когда положил партитуру на ковер. Струнные уже не поскрипывали, а выли, как безумные. Флейта тоже не хныкала, а громко визжала, истошно голосила, всасывая и мощными толчками выплевывая воздух. Вступили трубы, повелительно и полнозвучно, словно небесные врата вот-вот приотворятся, для того чтобы в следующую секунду с мрачным медным лязгом захлопнуться, оказавшись вратами ада. И тут, после секундной тишины, нарушаемой лишь позвякиванием тарелок, до Георга донеслись голоса бездны: медные, струнные, и гобои нагрелись, раскалились добела — казалось, еще немного — и вздуются, а потом опасно лопнут волдыри от ожогов. Вот он, центр огненной реки, пекло, эпицентр огня, — то место, где душам суждено претерпеть тягчайшие муки, — на плечах Мэри выступила блескучая влага, кожа ее позолотела; оркестр впал в остервенение, и Георг заметил, что спинные мускулы Мэри чуть заметно пружинятся, то напрягаясь, то расслабляясь, то напрягаясь вновь. Смотреть на мерцающую позолоту кожи и игру мускулов спины Мэри было мучительно. Георг решил не обращать на Мэри внимания и сосредоточиться на музыке: вокруг гремело и грохотало, но вдруг, совершенно неожиданно, все смолкло — остался один гобой. Необычайно долго он верещал на одной ноте и вдруг оборвался. Стало тихо. Оцепенение зала длилось примерно столько же, сколько верещание гобоя. Вот он, волшебный миг перед началом аплодисментов, догадался Георг. Если он продлится чуть дольше, чем следует, то Бергману придется понервничать. Но в тот момент, когда тишина достигла критической точки, подготавливая достойное завершение концерта, зал разразился рукоплесканиями. Словно вторя отзвучавшей музыке, аплодисменты нарастали и чуть было не переродились в шум и хаос, но упорядочились, как только дирижер поклонился и музыканты поднялись со своих мест. Затем оркестранты сели, дирижер ушел за кулисы, и накатила новая волна оваций. Георг взглянул было на Бергмана, но того уже и след простыл. Как-то умудрился улизнуть. Наверное, сейчас он появится в дверях, где только что скрылся дирижер. Но Бергман не появился. Вместо него из-за кулис снова вышел сэр Джон. Он поклонился, дал знак оркестрантам, те поднялись, им зааплодировали. Когда он снова удалился, аплодисменты, начавшие было затихать, грянули с новой силой. Публика вызывала автора, желала его славить. А Бергмана все не было. Шум нарастал, и в ту секунду, когда восторг зала грозил пойти на спад или обернуться недовольством, он вышел из-за кулис. Размеренным шагом, как и вчера, прошествовал по сцене. Казалось, он полностью погружен в себя. Однако не сутулился — вышагивал прямо, напрягшись всем телом, закинув голову к звездам (софитам на потолке). Дойдя до середины сцены, Бергман повернулся к публике — взгляд был по-прежнему устремлен ввысь, но глаза наполовину закрыты, — на секунду замер и совершил изящнейший из всех когда-либо виденных Георгом поклонов. Он поклонился не так, как кланяются публике. Он поклонился не так, как кланяются королю. Он поклонился так, как может поклониться только сам король. Он преклонил голову перед Искусством, отдав тем самым дань уважения своему ремеслу. Зал аплодировал без устали, а когда композитор исчез за кулисами, зааплодировал еще сильнее. Тогда Бергман снова появился и, возведя очи горе, выступил вперед. Теперь он уже не кланялся, а стоял неподвижно, словно боясь, как бы его не опрокинуло волной ликования. На него несся ураган восторженных воплей и криков „браво“
Тристан-Аккорд отзывы
Отзывы читателей о книге Тристан-Аккорд, автор: Трайхель Ханс-Ульрих. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Уважаемые читатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор mybrary.info.