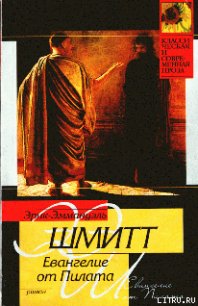Когда я был произведением искусства - Шмитт Эрик-Эмманюэль (электронная книга .TXT) 📗
— Вот доктор Фише, он сейчас осмотрит вас.
Тоном, не терпящим возражений, врач приказал мне раздеться. Прослушав меня со стетоскопом, он проверил рефлексы моей нервной системы, пластичность мышц, набрал из меня кровищи на целую дюжину пробирок, после чего принялся замерять гибкой метровой лентой; он измерил у меня все: окружность шеи, размер большой берцовой кости, ширину плеч. Во время всех этих манипуляций я чувствовал себя, как на примерке у портного, а не на медицинском осмотре.
Закончив работу, он сложил свой медицинский инструмент с гораздо большей осторожностью, нежели когда вертел мною в разные стороны, пробормотал что-то Зевсу-Питеру-Ламе и покинул комнату, не удостоив меня даже взглядом.
Когда мы остались одни, я, натягивая на себя одежду, поинтересовался у Зевса-Питера-Ламы:
— Зачем меня осматривал врач?
— Чтобы знать, в состоянии ли вы выполнить то, что я планирую.
— То есть?
— Дождемся результатов анализов, и тогда вы все узнаете.
— Когда же?
— Сегодня вечером.
Идиотская луна уставилась, не спуская с меня взгляда, через большое, на всю стену, окно.
Я сто раз ложился в кровать и сто раз поднимался. Я больше не знал, что с собой делать. С некоторой горечью я констатировал, что Зевс-Питер-Лама уже выиграл пари: мне больше не хотелось быть самоубийцей, я попал под его влияние, он пробудил во мне любопытство, вернувшее меня на жизненный путь, я с нетерпением ожидал озарения. Ведь Зевс-Питер-Лама обещал мне именно озарение. «Вы тот человек, который мне нужен». Прояснение моей личности, моего сознания.
В полночь слуга явился за мной, чтобы отвести в спальню моего хозяина. Зевс ожидал меня, развалившись в ночном халате посреди высокохудожественных подушек, — в которых мой креативный друг видел то ли живот косули, то ли каменного петуха, то ли бедро смущенной нимфы, — с бокалом шампанского в правой руке и с сигаретой — в левой. Мой Благодетель не курил, но ему нравился табачный дым; он держал сигарету кончиками пальцев, никогда не подносил ее к губам и поджигал лишь для того, чтобы артистично создавать вокруг себя голубоватые облачка.
— Мой юный друг, у меня для вас хорошие новости.
— Вот как, — едва вымолвил я, с трудом продирая пересохшее горло.
— Доктор Фише вполне удовлетворен. Он считает, что вы подходите для нашего дела.
— Отлично.
Я с облегчением вздохнул, хотя еще не знал, что меня ожидает. Меня лишь мучил страх, что врачебный осмотр откроет для моего Благодетеля какие-нибудь новые изъяны в моей личности, которые охладят его энтузиазм.
— Присядьте ближе. Я расскажу вам о своем проекте. Сигарету?
— Нет, не люблю, когда раздражается горло.
Он с удивлением поднял брови, не понимая, как это сигарета может вызывать кашель, поскольку ему никогда в голову не приходила мысль глотать табачный дым.
— Умоляю вас, у меня больше нет сил ждать, господин Зевс-Питер-Лама, расскажите мне о своей идее.
Можно долго бороться против очевидных вещей, но иногда вы можете, не задумываясь ни на секунду, решиться на самые безумные поступки.
Я с ходу принял предложение Зевса-Питера-Ламы.
— И все же, друг мой, подумайте. Не спешите, взвесьте все за и против.
— Нет. Я этого хочу. Или это, или возвращаюсь к пропасти.
— Так может, вы хотите, чтобы мой шофер Золтан отвез вас туда?
— Нет, в этом нет никакой нужды. Я согласен с вашим предложением.
— Подождем, однако, до завтра. Подумайте о том, к чему вас это обязывает. Подумайте также, от чего вы отказываетесь. Давайте обсудим это со мной, обмозгуйте это сами.
— Никаких дискуссий: я согласен!
Первым этапом нашего плана была организация моей смерти. То есть, моей официальной смерти.
Зевс-Питер-Лама настоял на том, чтобы я написал прощальное письмо своим родителям.
— Попрощайтесь с ними, сообщите им, что ваше самоубийство — решение, которое принадлежит только вам, что они здесь ни при чем, что вы благодарите их за нежность, что вы также испытываете к ним искреннюю нежность, что они не должны сильно огорчаться, одним словом, обычную для таких ситуаций ерунду… Вы, вообще, любите их?
— Кого?
— Ваших родителей.
— Чувства — не мой конек.
Я просидел целое утро, сочиняя прощальное письмо миру, который я покидал. Каково же было мое удивление, когда, подбирая слова, я начинал при каждом предложении обливаться горючими слезами. Я, который на протяжении десяти лет видел в своих родителях лишь непоследовательных воспитателей, сыгравших со мной злую шутку, обеспечивших успех старшим братьям и полный провал младшему, я, который постоянно уклонялся от их поцелуев, от их рыданий, от их расспросов, я, который считал, что мой отец и моя мать предали меня, сделав таким, каким я был, что они — родители, недостойные своей ноши, вдруг увидел перед собой, словно вспышки, все, что было до того… До видения… До появления безобразного отражения над умывальником в школьном туалете… Меня внезапно взволновала какая-то неприятная убежденность, что мои отец и мать всегда любили меня, никогда не изгоняли меня из своего сердца, даже тогда, когда я отвечал им холодностью. Смятение, в которое привела меня эта мысль, позволило найти самые верные слова.
— Браво, мой юный друг! Держу пари, что любой, прочитавший эти строки, не удержится от рыданий, — заявил Зевс-Питер-Лама, бегло окинув письмо взором, оставшимся сухим не хуже пустыни.
Он сложил листок и положил в конверт.
— А мои братья?
— Что?
— Что, если я напишу и братьям?
— Стоит ли?
— Письмо, которое преследовало бы их всю жизнь и мучило бы угрызениями совести…
— Ох, уж эти милые братья Фирелли! На них бесполезно воздействовать, они слишком красивы. Впрочем, есть ли у них совесть?
— Не знаю. Пусть им не будет от этого больно, но мне будет приятно. Только ради мести. Ничего, кроме мести.
— Как пожелаете. Но самый великолепный реванш, который вы можете им устроить, мой юный друг, так это то, что мы с вами замышляем…
Хотя он и был прав, я все же не устоял перед наслаждением написать прощальное обвинительное письмо тем, кто превратил меня в ничтожество.
Уже давно вы позабыли о там, что у вас есть младший брат. Я хочу помочь вам избавиться от этой амнезии. Я решил исчезнуть. В течение десяти лет я ожидал от вас поступков, которые так и не свершились, слов, которые так и не были произнесены. В течение десяти лет вы заработали много денег, выдавая себя за двух самых прекрасных мужчин на земле. Надеюсь, что, состарившись, вы станете более внимательны к другим людям и сохраните в своих детях то, что разрушили во мне. Прощаюсь с вами без всякого сожаления.
С радостной надеждой никогда больше вас не увидеть — ни вас, ни особенно фотографии братьев Фирелли…
Было решено, что я покончу с собой утром следующего дня, в понедельник.
На рассвете Зевс-Питер-Лама лично поехал на почту на лимузине, чтобы отправить мои письма.
Вернувшись, он сам отвез меня к побережью.
— Ваш шофер с нами не едет?
— Нет. Никто, кроме вас, меня и доктора Фише, не должен быть посвящен в наши планы. Золтан сегодня взял отпуск, и это очень удачно для нас. Он отправился на самолете на родину, чтобы навестить свою семью.
Не доезжая двух километров до побережья, автомобиль остановился на обочине под соснами.
— Идите туда, — сказал он, открывая мне дверцу, — и оставьте там как можно больше следов. Я заберу вас через полчаса.
Я продолжил путь пешком, вдавливая туфли в грязноватое месиво, чтобы четче отпечатать свои следы. Остановившись на полпути, я нарочно обронил свой платок с вышитыми на нем моими инициалами. Добравшись до вершины, я оставил у одной из расщелин свой рюкзак.